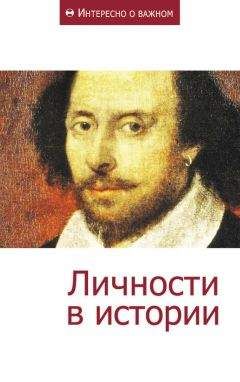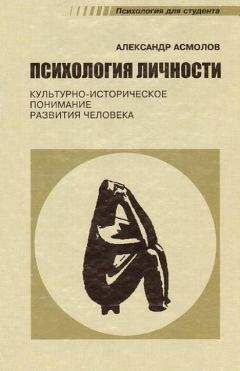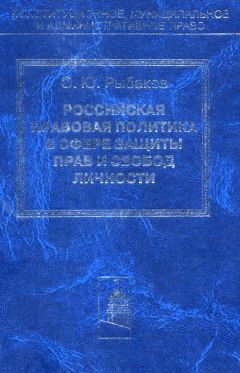Владимир Кантор - В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: опыт русской классики
5. Что же за люди вырабатывались внутри этой системы ценностей? Когда Рубашова арестовывали, то мы первый раз замечаем контраст двух поколений — прошедших революцию и «выросших при новых героях»: молодой сотрудник жёстче и грубее. «Его грубость вовсе не была искусственной — она составляла основу его характера. «Да, славную мы вырастили смену», — подумал Рубашов». Это первое столкновение с новым поколением.
После расстрела следователя Иванова, арестованного, как можно догадываться, по доносу его младшего коллеги, следователя Глеткина, этот Глеткин, как я уже говорил, берёт себе дело Рубашова. И когда Рубашов с ним сталкивается, у него в голове рождается слово, которое становится ещё одним из опорных понятий романа: неандерталец. «Фамилия Рубашова ничего не говорила этим неандертальцам новейшей эры». Ну и что? — могут спросить. Отвечу словами Пушкина: «Уважение к именам, освящённым славою,… есть… первый признак ума просвещённого»{404}. Просвещение, как известно, антитезу себе видело в дикости, в варварстве. Но что значит обвинение в дикости, в варварстве нового человека? Для Кёстлера появление подобного монстрюозного существа означает, что тип взаимоотношений, сложившийся при сталинской диктатуре, отбросил человечество в эпоху до переселения народов, разрушения античной цивилизации и становления варварских государств. В своё время шли споры о том, благотворную ли роль сыграли варварские завоевания в развитии человечества? Некоторые мыслители утверждали, что если б не варвары, то не было бы движения человечества к новым достижениям. Великий русский мыслитель Чернышевский, посвятив всю свою деятельность борьбе с невежеством, варварством, отстаиванию просвещения, писал: «Основная сила прогресса — наука, успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространённости знаний. Вот что такое прогресс — результат знания. Что же такое варвар? Человек, ещё погрязший в глубочайшем невежестве; человек, который занимает средину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума, который к дикому зверю едва и не ближе, чем к развитому человеку. Какая же тут может быть польза для прогресса, то есть для знания, когда люди сколько-нибудь образованные заменяются людьми, ещё не вышедшими из животного состояния? Какая польза для успеха в знаниях, если власть из рук людей сколько-нибудь развитых переходит в руки невежд, незнанию и неразвитости которых нет никакого предела? Какая польза для общественной жизни, если учреждения, дурные или хорошие, но всё-таки человеческие, всё-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть несколько разумное, — заменяются животными обычаями?»{405} Если таков варвар, то что ж говорить о неандертальце? Это просто дочеловеческий период.
Но Рубашову страшно так подумать, потому что он чувствует Глеткина своим детищем: «Глеткин был настолько силён, что даже победа над ним оборачивалась поражением. Массивный, неподвижный и бесстрастный, сидел он за столом, олицетворяя Правительство, обязанное своим существованием старой гвардии. Их детище, плоть от плоти и кровь от крови, выросло в чудовищного, не подвластного им монстра. Разве Глеткин не признал, что его духовным отцом был старый интеллигент Иванов? Рубашов беспрестанно напоминал себе, что глеткины продолжают дело, начатое старой интеллигенцией. Что их прежние идеи не переродились, хотя и звучат у неандертальцев совершенно бесчеловечно». Рубашову хочется увидеть в Глеткине зарю новой эры, иначе, как ему кажется, обессмыслится весь его жизненный путь. Он лукавит сам с собой, но смысл употребляемого им слова богаче его умопостроений.
В лице неандертальца Глеткина сама судьба, сама история загоняет Рубашова в угол. Он хотел разрушить историю, ибо что иное значат слова героя — «грядущее десятилетие окончательно решит судьбу человечества — как не окончание исторического процесса». Что же, «история прекратила течение своё», и из образовавшейся бездны, из провала в прошлое повылезли монстры. Помогло неандертальцам так быстро состояться одно весьма важное обстоятельство. В романе к пониманию этого обстоятельства путь лежит через словечко балласт. «Мы выбросили за борт, — писал он в своём тюремном дневнике, — балласт буржуазных предрассудков и правил «честной борьбы», а поэтому вынуждены руководствоваться одним — единственным мерилом — последовательной логикой… Мы плывём без балласта, и за каждым поворотом руля неминуемо следует либо очередная победа, либо смерть». Под «балластом», как выясняется дальше, понимались моральные запреты и нормы чувств, называвшиеся в те годы «буржуазными»: «У Рубашова и его товарищей по движению не было свода нравственных правил: все свои поступки они совершали, сообразуясь с единственным мерилом — рассудком». Между тем забывалось, что эти правила суть скрепы, охранительные преграды, ограждающие человечество от попятного исторического движения, от впадения в дикость и варварство. И выработаны они были не просто капиталистическим или эксплуататорским обществом, нет, они выработаны были человечеством. В своё время, полемизируя с Бакуниным, требовавшим уничтожения во имя революции всех моральных норм, Герцен предупреждал о возможной в результате взрыва дикости гибели цивилизации. «Дико необузданный взрыв, — писал он, — вынужденный упорством, ничего не пощадит… С капиталом, собранным ростовщиками, погибнет другой капитал, идущий от поколенья в поколенье и от народа народу. Капитал, в котором оседала личность и творчество разных времён, в котором сама собой наслоилась летопись людской жизни и скристаллизовалась история… Разгулявшаяся сила истребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те пределы сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях с начала цивилизации»{406}
В романе есть один смешной, написанный отчасти иронически персонаж, обитатель соседней с Рубашовым камеры, которого он про себя называет Четыреста второй (по номеру камеры), бывший офицер царской армии, осуждённый на двадцать пять лет, страдающий без женщин и анекдотов, никогда не думавший о высших законах бытия («Не те мозги», — как он сам объясняет). В системе художественных образов-символов Кёстлера он решительно противостоит лишённому моральных норм неандертальцу Глеткину. Почему? Да потому, что он сохранил те чувства, которые казались Рубашову условностями и пережитками: представление о мужестве, не зависимом от занимаемой политической платформы (так что и во враге, Рубашове, он мог разглядеть человека), о чести, о достоинстве. Характерен их разговор-перестук сквозь стенку. «Неужели вам наплевать на честь?» — интересуется офицер. «У нас с вами разные взгляды на честь», — отвечает Рубашов. «Честь это верность своим идеалам», — поясняет оппонент. «Честь это полезность делу без гордыни», — поучает Рубашов. И дальше любопытнейшее определение. «Честь это никакая не полезность, а порядочность», — выстукивает сосед. Это позиция, которая могла бы дать устойчивость Рубашову в его противоборстве с Глеткиным, «умереть молча», как советует ему неведомый доброжелатель, не возведя напраслины на себя и своё дело. Но Рубашов определяет честь функционально, через полезность, на этом-то и ловит его Глеткин. Прозрение приходит к Рубашову слишком поздно, уже перед расстрелом: «Ошибочной оказалась система мышления; возможно, ошибка коренилась в аксиоме, которую он считал совершенно бесспорной и повинуясь которой жертвовал другими, а теперь вот другие жертвовали им — в аксиоме, что цель оправдывает средства. Она убила революционное братство и превратила бойцов Революции в одержимых. Как он написал в тюремном дневнике — «Мы выбросили за борт балласт буржуазных предрассудков…» Возможно, вот он — корень беды. Возможно, человечеству необходим балласт. И возможно, избрав проводником разум, они шли таким извилистым путём, что потеряли из виду светлую цель.
Возможно, наступает эпоха тьмы».
7. Теперь мы подошли к заключительному, корневому понятию романа — понятию тьмы. Слово это ударяет нас с самого начала — с заглавия. Что такое «слепящая тьма»? Мыслимо ли такое? В английском переводе роман назывался «Тьма в полдень». Русский переводчик усиливает понятие тьмы, превращая его образную доминанту произведения. «Слепящая тьма» — это густота и интенсивность тьмы, её радиактивная энергийность, всё сокрушающая тёмная сила, поглотившая дневной свет и сделавшая людей незрячими. Ибо как Зло не есть отсутствие Добра, оно само по себе активно, так и тьма не есть отсутствие света. Для Кёстлера тьма, как и Зло, активна, агрессивна, наступательна. Но именно поэтому ей можно и нужно противостоять. Такое противостояние Тьме, наступающей на мир в лице Чёрного Властелина и его прислужников, Чёрных всадников, «чёрных, словно дыры в темноте», изображено в романе Д. Р. Р. Толкиена «Властелин колец». Но если роман Толкиена оптимистичен, то роман Кёстлера, опиравшийся на реальные факты нашей истории, трагичен. Сталинщине никто противостоять не сумел. Именно в эти годы написаны страшные строки Мандельштама: «Наступает глухота паучья, //Здесь провал сильнее наших сил». Поэту казалось, что «короткий выморочный день» цивилизации и европейской культуры подошёл к своему пределу, за ним — тьма. «В Европе холодно. В Италии темно. //Власть отвратительна, как руки брадобрея» (О. Мандельштам). Так что Кёстлер был не одинок в своих трагических прозрениях.