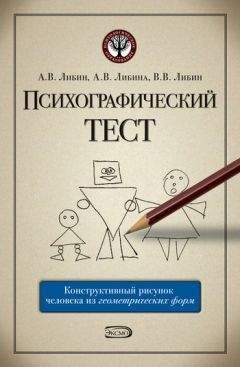Нина Меднис - Венеция в русской литературе
Вероятно, тяга поэтов к этому образу определяла порой и выбор стихотворений для перевода, примером чему может служить перевод Ф. А. Кони стихотворения К. Делавиня «Гондольер» (1835).
Параллельно с точным воспроизведением образа поющего гондольера в русской поэзии возникают различные его ответвления и трансформации, в которых есть гондольер, есть и упоминание о песне, но они не сливаются, а существуют рядом друг с другом, как в «Баркароле» (1850) Л. Мея или «Венеции» А. Апухтина.
Вопрос о том, кем из трех переводчиков элегии А. Шенье была дарована образу гондольера действенная творческая энергия, звучит почти риторически. И. Козлов и В. Туманский уже в 30-х годах перестали быть фигурами сколько-нибудь значимыми для русской поэзии. Их переводы, выдержанные в условной романтической манере, не оставляют по себе сильного впечатления. Другое дело пушкинский перевод, который имеет свое лицо не только по причине блестящего дара поэта, но и в силу духовной адекватности подлинника переводчику, о чем мы говорили выше. И дело не в том, вспоминали или нет о Пушкине последующие авторы русской литературной венецианы, рисуя своих гондольеров, но в том, что воссозданный Пушкиным образ продолжал жить независимо от чьего-либо субъективного осознания уже в метаобразной сфере. Разумеется, в плане интертекстовых связей можно искать корни данного образа у К. Гольдони или И. В. Гёте, наконец, у того же А. Шенье, но внутри венецианского текста русской литературы у его поэтической колыбели стоит прежде всего Пушкин.
Иная и вместе с тем сходная волна пушкинского поэтического эха в русской поэзии была порождена незавершенным стихотворным фрагментом:
Ночь тиха, в небесном поле
Светит Веспер золотой.
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.
Воздух полн дыханьем лавра.
Дремлют флаги бучентавра.
Море темное молчит.
Как и в предыдущем случае, исследователи усматривают здесь ориентацию на уже существовавшие литературные источники, однако речь теперь идет не о переводе, а об оригинальном произведении поэта. Стихотворение это также продолжает активно жить в русской литературной венециане, но уже в совершенно сознательных попытках его продолжения. Л. А. Шейман, говоря о черновике данного отрывка, замечает: «Черновик Пушкина обладает могучей магнетической силой в обоих смыслах определяющего слова — и силой приближения, и силой внушения, суггестирующей. Текст этот дважды был утерян и дважды воскресал. И он неизменно влек к себе не только пушкинистов, но и поэтов, и критиков, и дилетантов-мистификаторов, и, конечно же, читателей-пушкинолюбов»[236].
Точный год написания отрывка о доже и догарессе неизвестен, но некоторые соотношения с переводом элегии А. Шенье «PrПs des bords oЭ Venise est reine de la mer…» позволяют высказать робкие предположение относительно 1827 года.
В венецианскую часть перевода элегии Пушкин вносит существенные в данном случае для нас собственные штрихи. Образ Венеции — царицы моря, нарисованный А. Шенье, он, отступая от подлинника, преобразует в «царствует Венеция златая»[237].
Деталь эта явно говорит о большем интересе Пушкина к пластическому облику Венеции, чем к ее яркой истории. Его привлекает сама Венеция, но не Венецианская республика, что, возможно, и послужило причиной незавершенности произведения о доже и догарессе, замысел которого Л. А. Шейман, вслед за Г. Шенгели, связывает с исторической трагедией Байрона «Марино Фальеро, дож венецианский»[238]. Следовательно, оба рассматриваемых нами стихотворения имеют одну отправную точку в поэтической географии Пушкина, но разнонаправленны по творческой интенции. На поэтическую перекличку двух текстов указывает и обращение в обоих к достаточно редкому для русской поэзии образу Веспера, ставшему у Пушкина вслед за А. Шенье, то есть не ранее 1826 года, звездным знаком Венеции.
Путь в литературе отрывка «Ночь тиха, в небесном поле…» не тернист, но прихотлив. Его начальная творческая энергетика столь высока, что соблазн поэтически моделировать продолжение сюжета оказался почти непреодолимым. При этом существование возможных сюжетных разверток — повести Э. Т. А. Гофмана «Дож и догаресса» и упомянутой выше трагедии Байрона «Марино Фальеро, дож венецианский» — не только не снимает творческого напряжения, порождаемого пушкинским отрывком, но даже усиливает его. Стихотворение Пушкина функционирует в этом смысле как беспроигрышная провокация, подталкивающая к дописыванию текста. Не случайно один из вариантов продолжения его В. А. Мануйлов включает в книгу «Литературные игры»[239].
В пушкинском отрывке, состоящем всего из семи стихов плюс строка многоточий, заложено очень много информации за счет разного рода потенциальных проекций: здесь точно обозначен сюжет о доже и догарессе, здесь в потенции и сюжет о догарессе и ее молодом возлюбленном, о старом муже, молодой жене и гондольере и т. д. Таким образом, отрывок сочетает в себе в равной мере и четкость направленности, и широту возможностей. Он не замкнут в самом себе не только в силу его незавершенности, но и по причине заложенного в нем сильного сюжетного посыла, который не раз подхватывался поэтами в течение XIX–XX веков.
Первым попытался дописать стихотворение Пушкина А. Майков (1888), использовавший лишь начальное четверостишие отрывка и сделавший при этом приписку: «Эти четыре строчки найдены в бумагах Пушкина, как начало чего-то. Да простит мне тень великого поэта попытку угадать: что же было дальше?» А. Майков находит очень точное слово — «угадать», указывающее на момент игры, присутствующий в исходном тексте, где, с одной стороны, задан словарь повествования, с другой стороны, скрыт его сюжетный финал. А. Майков выбирает свою доминанту в пушкинском образном алфавите и называет стихотворение «Старый дож». Включив его в цикл «Века и народы», он тем самым указывает на значимость для него не только, а может быть, и не столько, намеченного в стихотворении любовного треугольника, сколько на историческую ориентированность сюжета. Значительная часть стихотворения представляет собой монолог дожа, повествующего дремлющей догарессе о славе Венецианской республики, то есть о том, что Пушкина, видимо, занимало меньше всего:
Тешит он ее картиной,
Как Венеция тишком
Весь, как тонкой паутиной,
Мир опутала кругом:
«Кто сказал бы в дни Аттилы,
Чтоб из хижин рыбарей
Всплыл на отмели унылой
Этот чудный перл морей!
Чтоб укрывшийся в лагуне
Лев святого Марка стал
Выше всех владык, и втуне
Рев его не пропадал!
Чтоб его тяжелой лапы
Мощь почувствовать могли
Императоры и папы,
И султан, и короли?..»
Но историческая часть сюжета композиционно уравновешивается у А. Майкова любовной, в которой появляется также связанный с Пушкиным образ поющего гондольера. Этот сюжетный ход введен А. Майковым как виртуальный: поэт разгадывает пушкинскую загадку и одновременно загадывает свою. Песня гондольера о старом доже и молодой догарессе как внутреннее зеркало текста отражает основную сюжетную ситуацию, но неизвестна степень случайности этого совпадения. В результате стихотворение «Старый дож» заканчивается вопросом, равно актуальным и для героя его (дожа), и для читателя:
А она так ровно дышит,
На плече его лежит…
«Что же?.. Слышит иль не слышит?
Спит она или не спит?!»
Позже попытку дописывания пушкинского отрывка предприняли М. Славинский, С. Головачевский, В. Ходасевич, Г. Шенгели, Д. Иванов, Л. Токмаков[240].
Наиболее интересен из них, на наш взгляд, вариант В. Ходасевича («Романс», 1924). Если А. Майков использует в зачине несколько измененный — «Ночь светла» вместо «Ночь тиха» — традиционно публикуемый вариант, то В. Ходасевич обращается сразу к двум версиям:
В голубом эфира поле
Ходит Веспер золотой,
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.
… Охлаждаясь поневоле,
Дож поникнул головой.
Ночь тиха. В небесном поле
Ходит Веспер золотой.
Первый стих воспроизводит здесь начало чернового наброска отрывка о доже и догарессе, но с некоторой неточностью. В черновике первая строка записана так: «[В голубом] небесном поле» [курсив наш. — Н. М.].
Исток странной первой строфы стихотворения В. Ходасевича, синтезирующей и варьирующей одновременно и черновой и беловой тексты пушкинского отрывка, обнаружил В. Перельмутер. Он указывает на то, что В. Ходасевич при работе над «Романсом» мог ориентироваться на восьмитомное собрание сочинений Пушкина под редакцией П. О. Морозова, увидевшее свет в 1903–1906 гг., где первый стих отрывка приведен в использованном В. Ходасевичем варианте. Второй стих — и это также отмечает В. Перельмутер — воспроизводит вариант, предложенный П. В. Анненковым[241]. Следовательно, пишет автор статьи «Потаенная полемика», «начало „Романса“ оказывается контаминацией двух давних прочтений пушкинского черновика»[242].