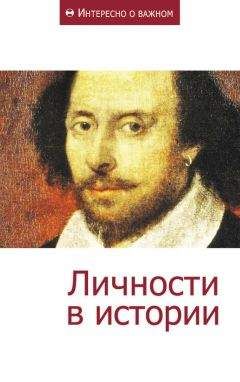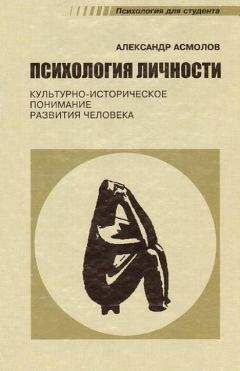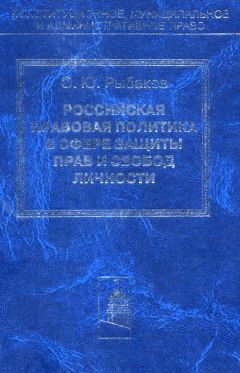Владимир Кантор - В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: опыт русской классики
У Гоголя и Чаадаева речь шла уже не о физической, физиологической жизни, а о жизни духовной. Именно она в самодержавной России прежде всего обрекалась на смерть. Но в основе, разумеется, лежало пренебрежение к жизни, физической жизни любого человека — личности или ещё не выработавшегося в личность. Поэтому если обычный законопослушный подданный империи просто «приносился в жертву» целям государства (что с беспощадной откровенностью показал Радищев, сравнив империю со стозевным чудищем), то обладатель духовной жизни, самосознания подвергался каре, целенаправленно уничтожался. Вспомним мартиролог деятелей русской культуры, предъявленный Герценом самодержавию: «Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок. История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги»{26}. Именно это имел в виду Белинский, когда в своём знаменитом письме Гоголю писал, что в николаевской России нет «никаких гарантий для личности, чести и собственности» и первейшая её нужда — «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе»{27}. Духовно уснувших и погибших людей (описанных в русской литературе) от гоголевского Тентетникова и гончаровского Обломова до чеховского Ионыча можно насчитать не один десяток. О том, что это равнодушие к духовной жизни заложено в традициях и обычаях крепостнической России, Чернышевский говорил неоднократно. Он не раз писал о равнодушии русского общества «ко всем высшим интересам общественной, умственной и нравственной жизни, ко всему, что выходит из круга личных житейских забот и личных развлечений. Это — наследство котошихинских времён, времён страшной апатии. Привычки не скоро и не легко отбрасываются и отдельным лицом… Мы до сих пор всё ещё дремлем от слишком долгого навыка к сну»{28}. Это типичный «мёртвый сон», и кто пробуждается от него, духовно оживает, тот в таком случае закономерно уничтожается полицейским государством. Продолжая и теоретически осмысливая и закрепляя традиции великой русской литературы, боровшейся против этого «сна-смерти», «мёртвого сна», называемого русским самодержавием, Чернышевский и выдвигает свой знаменитый тезис, который знаменовал собой переворот в ценностной ориентации всего общества. Не случайно диссертация уже во время защиты была воспринята прогрессивно настроенными современниками, вспоминает Н. В. Шелгунов, как «проповедь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство»{29}.
Однако о какой «жизни» шла речь? Вл. Соловьёв главный и важный смысл диссертации увидел впоследствии в том, что Чернышевский признал наличие объективной красоты в природе. Это верно, и о важности этого тезиса сегодня можно говорить в связи с лавиной экологических предсказаний, пророчеств и тревог. Но речь тут прежде всего шла о жизни человека. «Прекрасное есть жизнь, — писал Чернышевский и, уточняя, добавлял, — и ближайшим образом, жизнь, напоминающая о человеке и о человеческой жизни»{30} Однако же люди бывают разные, вследствие этого ещё пояснение: «… прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям»{31}. Однако современники справедливо могли сказать, что и «наши понятия» бывают разные. Чернышевский вполне предвидел этот вопрос. Говоря о сложившемся в самодержавной России восприятии красоты среди разных слоёв населения, Чернышевский в своей диссертации выстраивает своеобразную триаду.
В основание её он кладёт представление о красоте у «простого народа»: «… в описаниях красавицы в народных песнях не найдётся ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил организма, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе»{32}». Отрицанием этой простой жизни, близкой к природному процессу, является жизнь высшего света, для которого характерно «увлечение бледною, болезненною красотой — признак искусственной испорченности вкуса»{33}. Но синтезисом, как тогда говорили, высшей точкой у него выступает жизнь и представления о красоте «образованных людей», которые уже различают «лицо», личность: «Всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек нам кажется прекрасен только потому, что у него прекрасные выразительные глаза»{34}.
Именно в «жизни ума и сердца» видел Чернышевский высшую точку развития человека. Иными словами, то, что каралось самодержавием, тех людей — «поэтов, мыслителей граждан», — которых Герцен заносил в мартиролог погубленных царским правительством, Чернышевский уже в самом начале своей деятельности называет выразителями истинного понимания жизни. Впоследствии, в «Что делать?», он о таких людях скажет: «новые люди», лучшие среди которых «двигатели двигателей», «соль соли земли».
Чернышевский говорил: жизнь выше искусства, ведь чтобы создавать искусство, наслаждаться им, необходимо быть живым — и физически, и прежде всего духовно. И задача искусства в России — пересоздать человека, превратить его в свободное, самодействующее существо, научить его жить, а не прозябать, не спать, вытащить из состояния сонной смерти. Поэтому и требовал он от искусства «быть для человека учебником жизни»{35}. Такая цель одушевляла и его самого, когда писал он свой знаменитый роман «Что делать?». Но именно это введение искусства в сферу более широкую — сферу жизни, подчинение её потребностям, слова об объяснении и приговоре, задачи, которые ставятся искусству, и казались русским либералам проявлением дидактического консерватизма, сродни самодержавно-государственному. «Мы имеем дерзость… доказать, по мере сил наших, — писал Николай Соловьёв, — что вся она (теория Чернышевского. — В. К.) прикрыта только либеральной оболочкой, одета в прогрессивную одежду, в сущности же самая из всех консервативная, самая отсталая»{36}. Между тем у Чернышевского просветительный пафос учительства неразрывно связан с понятием свободы, не мыслится без неё. «Свобода… не составляет какого-нибудь частного вида человеческих благ, — утверждал он, — а служит одним из необходимых элементов, входящих в состав каждого блага; свобода и просвещение — это кислород и водород,… без которых не существует в природе никакая жизнь»{37}. Такая позиция в принципе исключает любое подавление личности.
* * *
К несчастью, тенденция, враждебная жизнестроительной концепции великого русского мыслителя, оказалась гораздо более живучей, чем он мог того ожидать. И уже в XX столетии, внешне присвоив себе эстетическую теорию Чернышевского, его именем продолжали подавлять и убивать искусство и его творцов. Горестные слова Бориса Годунова «Они любить умеют только мёртвых» (Пушкин). Затравленные Маяковский и Пастернак посмертно объявлены — каждый в свой срок — великими поэтами. Недавно произошла посмертная «канонизация» Высоцкого. А судьба Вампилова, которого мало кто знал при жизни?.. Заметим, что наша канонизация порой имеет характер вторичного, посмертного убийства, как произошло, скажем, с поэзией Маяковского, многим ненавистной ещё со времён школы. Омертвили поэта, кредо которого: «Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь!». Не произошло бы этого теперь с Пастернаком, Мандельштамом, Гумилёвым и другими, ибо статьи о них напоминают порой «некрологические панегирики», своего рода перезахоронения: только теперь вместо свалки — по первому разряду. В чём же гарант живого отношения к культуре?
И тут путь нас вновь ведёт к опыту русской классики прошлого века, к идеям, выстраданным великими русскими писателями. Одним из необходимых условий развития общества Чернышевский называл просвещение: «Русский, у кого есть здравый ум и живое сердце, до сих пор не мог и не может быть ничем иным, как патриотом, в смысле Петра Великого, — деятелем в великой задаче просвещения русской земли»{38}.
Говоря о просвещении, Чернышевский имел в виду глубинное реформирование культуры — привитие ей фермента свободы. Поэтому речь должна идти о просвещении не в культуртрегерском[1] понимании, а в смысле становления свободной, самодеятельной личности. «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия… — писал Кант. — Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого… Имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения»{39}. Иными словами, Просвещение было необходимым элементом идущего антропогенеза, оно преодолевало «духовное несовершеннолетие человеческого рода, причиной которого, по мнению Канта, — как справедливо написано в примечаниях к этой работе немецкого мыслителя — был не недостаток ума, а недостаток решимости и мужества самостоятельно пользоваться им. Значит, сущность Просвещения заключается не просто в распространении знаний, а в развитии активности человеческого разума, который должен не просто усваивать истины, но осознавать своё суверенное положение, своё естественное право верховного судьи»{40}. Именно в сочетании борьбы против невежества, распространения знаний с активной самостоятельностью ума и заключена специфика Просвещения, в каких бы странах и регионах оно ни происходило, какие бы национальные обличия ни принимало. Такая позиция предполагала резкое критическое отношение к существующему порядку мироустройства. Наше время, восклицал Достоевский, — это «время роста и воспитания, самосознания, время нравственного развития, которого нам ещё слишком недостаёт. Просвещения, просвещения во что бы то ни стало, как можно скорее»{41}.