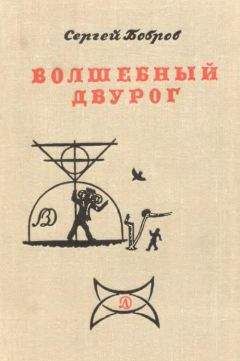Вера Проскурина - Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II
Среди последних был и Мерсье: Рахманинов печатал в «Утренних часах» (1788–1789) свои переводы из «Картин Парижа», «Спального колпака» и «2440 года». Эти три книги Мерсье, друга Ретифа деля Бретона, известного эротического писателя, входили и число бестселлеров философского либертинажа предреволюционной Франции{659}. При этом отметим, что «философия» автора позднего Просветительства сводилась к сатирическому пересмотру бытовых моделей поведения, к ироническому нравоописательству и пропаганде свободного от канонов образа мысли и образа жизни. Остроумие и бойкое перо для читателя предреволюционной Франции оказывались больше в цене, нежели высокие идеи или целые программы государственного переустройства.
Остроту ума и «откровенный нрав» Рахманинова упоминал Крылов и в разговоре, записанном И.П. Быстровым: «Помнится, мой милый, что раз поссорились мы с Рахмановым (sic! — В. П.) за то, какое название дать журналу [“Почта духов”]… Ну, Рахманов хорошо был учен: знал языки, историю, философию… Он давал нам материалы… После еще ближе сошелся я с Клушиным…»{660} По отзыву Г.Р. Державина, Рахманинов был «человек… умный и трудолюбивый, но большой вольтерианец»{661}.
Это «но» звучит весьма выразительно, свидетельствуя о некоем наборе вольтерьянских характеристик: религиозной свободе, деизме, скептицизме. Второй «товарищ» Крылова, Клушин, соиздатель «Зрителя» и «Санкт-Петербургского Меркурия» (знакомство с ним датируется 1789 годом), также представлял, судя по всему, русский вариант французского либертина. А.Т. Болотов писал о Клушине: «Умен, хороший писатель, но… сердце имел скверное: величайший безбожник, атеист и ругатель христианского закона; нельзя быть с ним: даже сквернословит и ругает, а особливо всех духовных и святых»{662}. В совокупности же обе характеристики дают представление о том дружеском окружении, в котором формировался Крылов-сатирик. В этом контексте особенно пикантно выглядит приведенное выше стихотворение Клушина «Благодарность Екатерине», где постоянное сравнение царицы с Богом, овеянное игрой с державинской поэзией, приобретает исключительно памфлетный, остро сатирический характер.
«Клеопатра» на троне и ее хулители
Среди наиболее популярных тем французских либертинов XVIII века были эротика и десакрализованный (поставленный в пикантный бытовой контекст) монарх. Русские условия позволили совместить эти две темы в одну.
Екатерина II, сменившая за 34 года царствования 21 официального фаворита (и бессчетное количество временных партнеров), приобрела известность не только «русской Минервы», «философа на троне». Ее образ запечатлели не только дипломатичные мемуаристы; миф о «русской Клеопатре» стал достоянием известных европейских писателей. Рудольф Распе «свел» русскую царицу с известным любителем гиперболических деяний бароном Мюнхгаузеном, а Маркиз де Сад изобразил Екатерину в своем романе «Истории Жульетты»{663}.
Мемуарист екатерининского царствования Шарль Массон, описывавший якобы имевшие место ночные вакханалии Екатерины и ее приближенных в обществе братьев Зубовых, язвительно замечал: «Екатерина была таким же философом, как и Тереза»{664}.[115] Массон отсылал к самому главному бестселлеру французской эротической литературы — к роману того же маркиза д’Аржанса «Тереза-философ», образцу либертинской философской порнографии. Сравнение Екатерины с героиней этого романа, занятой исключительно любовными приключениями и возводящей секс в своеобразную философию, иронически оттеняло известную претензию русской царицы быть «философом на троне». Европейские писатели без устали окружали имя русской царицы самым пикантным контекстом. Французский поэтСенакде Мелан (Sénac de Meilhan) в 1775 году сочинил бурлескную эпическую поэму «Еблемания» («La Foutromanie»), где героями были греческие боги и русская Екатерина II{665}.
Французская эротическая поэтическая культура оказала влияние и на создание сатирических стихотворений князя Дмитрия Петровича Горчакова. Горчаков (1758–1824) — автор как печатных сатир, комических опер, повестей и дружеских посланий, так и непечатных куплетов, активно распространявшихся в рукописном виде. Существовало даже свидетельство о наличии непристойной поэмы «Гавриилиада», будто бы переведенной с французского Горчаковым. Позднее Пушкин, отмежевываясь от обвинений в религиозном кощунстве, приписывал собственную «Гавриилиаду» князю Горчакову. М.Н. Лонгинов упоминает многие стихотворения Горчакова «неудобные для печати»{666}.
Одним из таких стихотворений были «Святки» (1780-е годы), написанные в жанре «ноэля» — святочной сатирической песенки, пародирующей евангельские сюжеты о рождении Христа, о встрече девы Марии с пришедшими на поклонение волхвами. Авторы ноэлей могли сильно отступать от евангельского канона ради сатирического обозрения текущих политических или литературных событий. Главным и неизменным элементом сюжетной парадигмы всегда оставался специфический «зачин» — дошедшая до какого-то географического места весть о появлении Христа и поспешный приход комически выведенных персонажей на «поклонение». Десакрализация царя, либертинское кощунство сопрягались с эротическими намеками и политическим вольномыслием.
Горчаков, не нашедший своего места в военной службе, оставленный без внимания высшими сферами, в 1780 году вышел в отставку и занял диссидентскую позицию по отношению к «поврежденным» нравам екатерининского двора. В его стихотворении Екатерина отказывается спешить на встречу с Христом:
Как в Питере узнали Рождение Христа,
Все зреть его бежали В священные места.
Царица лишь рекла, имея разум здравый:
«Зачем к нему я поплыву?
И так с богами я живу.
С Эротом и со славой»{667}.
В том же тексте содержится намек на известную интимную связь Потемкина с его собственными племянницами — пятью сестрами Энгельгардт:
За ним спешат толпою
Племянницы его
И в дар несут с собою
Лишь масла одного.
«Не брезгай, — все кричат, — Христос, дарами сими;
Живем мы так, как в старину,
И то не чтим себе в вину.
Что вместе спим с родными»{668}.[116]
В последние годы царствования распутство государыни приобрело гротескные формы. Двадцатидвухлетний корнет Платон Зубов, вошедший в спальню дряхлеющей государыни летом 1789 года, вышел из нее лишь по смерти Екатерины в ноябре 1796 года. Его стремительное возвышение, невероятная власть (назначен генерал-фельдмаршалом) при решительном отсутствии каких-либо политических способностей и отмеченной всеми мемуаристами общей бесцветности вызывали роптание даже у приближенных.
Молодой Крылов также не остался безучастным к нравам двора. Самым ранним свидетельством тому стала его трагедия «Клеопатра», написание которой, по свидетельству М.Е. Лобанова, относится к 1785 году. Содержание этой несохранившейся трагедии неизвестно. Однако образ любвеобильной и деспотичной египетской царицы легко ассоциировался с русским материалом. Сам жанр классицистической трагедии предполагал как наличие государственной тематики, так и наличие политических аллюзий. Восточный же антураж во второй половине XVIII века в европейских литературах был традиционной упаковкой самого актуального (и часто взрывного!) содержания. Само название трагедии — даже при отсутствии достоверных данных о ее сюжете — было провокационным. Аитиекатерининская направленность трагедии не вызывает сомнения, особенно в контексте дальнейших крыловских писаний.
Показателен и эпизод с Павлом I, которому Крылов (уже по восшествии опального наследника на престол) преподнес свою трагедию, не устыдившись того, что она была в свое время якобы отвергнута и Дмитревским, и самим автором как «ребяческое подражание французским трагедиям», по словам П.А. Плетнева{669}. В «Дневнике» М.П. Погодина сохранилась запись, сделанная со слов Крылова 27 октября 1831 года: «Павел встретил и сказал: — Здравствуйте, Иван Андреевич. Здоровы вы? — Он подал ему трагедию “Клеопатра”»{670}. Вне антиекатерининского контекста этот эпизод лишается всякого смысла.
Однако Крылов ищет более острые и одновременно более литературно препарированные (а потому и более закамуфлированные) формы антиекатерининского эпатажа. В комедии «Бешеная семья», как точно описывал Гуковский, «любовная горячка, увлечение флиртом, нарядами и т.д., охватившие всех родственниц Сумбура, от его дочери до старухи-бабушки, — изображена в тонах веселой буффонады, и сатира отступает на второй план по сравнению с фарсом»{671}. Показателен был образ старухи Горбуры (потом он появится и в «Почте духов»), одержимой этой любовной «горячкой». Любопытно, что Гуковский употребил выражение «любовная горячка» применительно к содержанию комедии. Как известно, позднее Крылов напишет повесть «Мои горячки» — именно ее будут искать во время упомянутого обыска в типографии. Зная общий контекст писаний Крылова эпохи «Зрителя», можно предположить, чго повесть была посвящена «Венериным» забавам и легко ассоциировалась с дворцовой повседневностью.