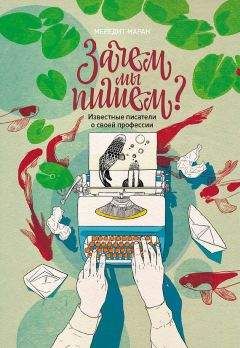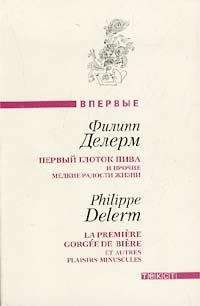Андрей Зорин - «Столетья на сотрут...»: Русские классики и их читатели
Читатель, верно, уж догадался, что подобный же эксперимент будет произведен с "Былым и Думами".
Мы попытаемся представить, как, в каком порядке, в каком историческом, социальном, моральном контексте мемуары Герцена, глава за главой, поступали к первым их читателям: к тем тысячам, десяткам тысяч "заинтересованных лиц", среди которых — Толстой и Добролюбов, Некрасов и Тютчев, Достоевский и Крамской, Лесков и Менделеев…
Разумеется, нелегко современному исследователю перевоплотиться в человека того поколения, убедить себя самого, что до сей поры — никогда и не слыхал про "Былое и Думы"; более того, сама невозможность такого превращения в дальнейшем будет не раз оговариваться: присоединясь к первым читателям Герцена, мы будем порой обращаться к необходимым комментариям и суждениям, которые принадлежат уже нашему веку, свидетельствуют о более чем вековой дистанции, нас разделяющей.
Итак, приступаем к чтению никому не известных герценовских мемуаров.
2. "ТЮРЬМА И ССЫЛКА"
"Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера". Лондон. 38, Regent Square, Gray’s Jan Road. Париж, A. Franck, 96, Rue Richelieu, 1854". 196 страниц.
Эту редчайшую книгу мне выдают в Музее книги Государственной библиотеки СССР имени Ленина. В крупнейших хранилищах страны с трудом наберется несколько подобных изданий; об уникальности говорит хотя бы то, что книжка, предоставленная в мое пользование, явно имеет свою "особенную тайну": на титульном ее листе и кое–где на полях сделаны карандашные пометы старинным почерком со старинной орфографией; против того места, где Герцен замечает, что крестьяне Пермской губернии выставляют на ночь еду для "несчастных" (то есть беглых преступников), записано: "Во всей Сибири всегда"; мемуарист называет Трескина тобольским губернатором — читатель поправляет: "иркутский". Кажется, пометы сделаны человеком, хорошо знающим Сибирь, и мы подозреваем — по смыслу, а также по почерку, что в Ленинскую библиотеку какими‑то невероятно сложными путями попал экземпляр, отосланный Герценом своему верному другу и помощнику Марии Каспаровне Рейхель: она ведь была сибирячкой и много лет являлась важнейшим посредником в сношениях государственного преступника Герцена с родиной…
Однако покинем 1980–е годы — переместимся в 1854–й.
Первый читатель, европейский, русский, берет в руки эту книгу, разглядывает заглавие.
"Искандер" — псевдоним, хорошо известный русскому образованному меньшинству: именно так прежде подписывал свои работы Герцен в легальной российской печати.
"Из записок…": читатель отсюда заключает, что существуют другие, еще не напечатанные разделы мемуаров, очевидно, не имеющих пока что общего названия ("Тюрьма и ссылка" — понятно, лишь заглавие раздела: жизнь же не может состоять из одной тюрьмы и ссылки!).
Лондонский и парижский адрес, русская печать; понятно, ни в начале, ни в конце книги нет никакого цензурного разрешения, обычного в каждом издании на родине; впрочем, Искандер уже несколько раз в специальных листках и рекламных объявлениях извещал русскую и западноевропейскую публику, что с 22 июня 1853 года в Лондоне действует основанная им Вольная русская типография. Вольная: вот откуда отсутствие "цензурных признаков"[220].
Открываем томик и приступаем к чтению, все же хорошо помня ("из XX столетия"!), с чего герценовские мемуары начинаются. Сначала, как полагается, введение, которого, однако, не найти сегодня в наших обычных, "спокойных" изданиях "Былого и Дум".
Первые печатные строки герценовских воспоминаний.
Приведем их полностью:
"В конце 1852 года я жил в одном из лондонских захолустий, близ Примроз–Гилля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.
В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере делами целого народа, знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили — и ни одного слова о том, о чем хотелось говорить.
…А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет и истина.
Я решился писать; но одно воспоминание вызывало сотни других, все старое, полузабытое воскресало — отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка[221] — эти ранние несчастия, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь.
Я не имел сил отогнать эти тени, — пусть они светлыми сенями, думалось мне, встречают в книге, как было на самом деле.
И я стал писать с начала; пока я писал две первые части, прошли несколько месяцев поспокойнее…
Цепкая живучесть человека всего более видна в невероятной силе рассеяния и себяоглушения. Сегодня пусто, вчера страшно, завтра безразлично; человек рассеивается, перебирая давно прошедшее, играя на собственном кладбище…
Лондон, 1 мая 1854 г." (VIII, 403—404).
Лишь очень узкий круг друзей, да и то приблизительно, туманно, мог понять, о каких страшных событиях, несчастиях, ошибках идет речь: семейная драма, смерть жены, гибель в пароходной катастрофе матери и сына, тягчайшие впечатления от кровавого подавления европейских революций, крушение многих старых идеалов, наконец, объявление Герцена "государственным преступником", находящимся вне закона и подлежащим изгнанию из пределов Российской Империи. Последнее обстоятельство, впрочем, было известно и российским властям, которые как раз в эти месяцы рассылали по всем губерниям циркуляры об изъятии из библиотек разных сочинений, когда‑либо опубликованных Искандером. Об изгнании также довольно ясно свидетельствовали выходные данные книги: в 1854 году Лондон и Париж, Англия и Франция, находились ведь в состоянии войны с Россией; армии западных союзников высадились в Крыму, блокировали Севастополь. Впрочем, не следует слишком "осовременивать" эту ситуацию: войны XIX века не были столь ожесточенными, непримиримыми, как мировые бойни следующего столетия; не только почта, но и отдельные русские путешественники (как увидим дальше) умудрялись в этот период переезжать из одной воюющей страны в другую, отправляясь для того сначала в Вену или в другую нейтральную столицу, а уж оттуда в Париж или Лондон, Даже у самых злых ненавистников Искандера не возникали мысли об "измене" или о чем‑то подобном, поскольку сочинения писателя не касались военных действий. Лондонский и парижский адрес книги, разумеется, не отречение, но — изгнание….
Печальное предисловие, естественно, вызывало вопросы как у знающих, так и у незнающих, поражало, как всякая искренне описанная беда…
Только через несколько десятилетий, в начале XX века, обнаружилось, что на полтора года раньше, 5 ноября 1852 года, Герцен написал иное предисловие, куда более безысходное и страшное. Оно было озаглавлено "Братьям на Руси" и имело эпиграф: "Под сими строками покоится прах сорокалетней жизни, окончившейся прежде смерти. Братья, примите память ее с миром!" Объясняя разницу между ранними мемуарными фрагментами и новым замыслом, Искандер писал: "Продолжать "Записки молодого человека" я не хочу, да если б и хотел, не могу. Улыбка и излишняя развязность не идут к похоронам. Люди невольно понижают голос и становятся задумчивей в комнате, где стоит гроб — незнакомого даже им покойника" (VIII, 397—398).
За 18 месяцев Герцен преодолел себя, скорбь стала все же более светлой, тональность более объективной; обращение к "братьям на Руси" заменено иным.
Как видно, сам труд над мемуарами помог, спас автора…
Однако минуем предисловие и приступаем к чтению 1–й главы "Тюрьмы и ссылки": никакого 1812 года и няни Веры Артамоновны. Текст начинается с многоточия:
"…Раз весною 1834 года пришел я утром к Вадиму; ни его не было дома, ни его братьев и сестер. Я взошел наверх, в небольшую комнату его, и сел писать.
Дверь тихо отворилась, и взошла старушка, мать Вадима" (VIII, 171).
Действие рассказа удалено от времени публикации всего на 20 лет. Имя Вадим напечатано открыто, потому что друг и единомышленник юного Герцена Вадим Пассек умер еще в 1842 году и откровения лондонского изгнанника ему не могут повредить.
Старушка–мать Пассека пришла в тот весенний день, чтобы предупредить 22–летнего Герцена: "Вы… и ваши друзья, вы идете верной дорогой к гибели. Погубите Вы Вадю, себя и всех; я ведь и вас люблю как сына.
Слеза катилась по исхудалой щеке.
Я молчал. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила:
— Не сердитесь, у меня нервы расстроены; я все понимаю, идите вашей дорогой, для вас нет другой, а если б была, вы все были бы не те" (VIII, 171 —172).