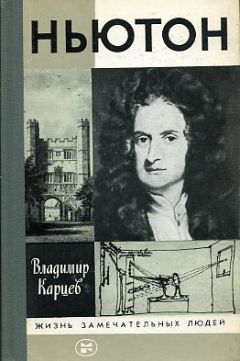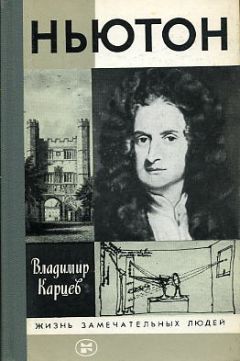Борис Соколов - Расшифрованный Достоевский. Тайны романов о Христе. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы.
Федору Михайловичу для художественной характеристики Николая Ставрогина необходимо было приписать герою своего романа какое-либо позорящее его преступление. Эту главу романа Катков действительно не хотел напечатать и просил автора ее изменить. Федор Михайлович был огорчен отказом и, желая проверить правильность впечатления Каткова, читал эту главу своим друзьям: К. П. Победоносцеву, А. Н. Майкову, Н. К. Страхову и др., но не для похвальбы, как объясняет Страхов, а прося их мнения и как бы суда над собой. Когда же все они нашли, что сцена „чересчур реальна“, то муж стал придумывать новый варьянт этой необходимой, по его мнению, для характеристики Ставрогина сцены. Варьянтов было несколько, и между ними была сцена в бане (истинное происшествие, о котором мужу кто-то рассказывал). В сцене этой принимала преступное участие „гувернантка“, и вот ввиду этого, лица, которым муж рассказывал варьянт (в том числе и Страхов), прося их совета, выразили мнение, что это обстоятельство может вызвать упреки Федору Михайловичу со стороны читателей, будто он обвиняет в подобном бесчестном деле „гувернантку“ и идет таким образом против так называемого „женского вопроса“, как когда-то упрекали Достоевского, что он, выставив убийцей студента Раскольникова, будто бы тем самым обвиняет в подобных преступлениях наше молодое поколение, студентов.
И вот этот варьянт романа, эту гнусную роль Ставрогина, Страхов, в злобе своей, не задумался приписать самому Федору Михайловичу, забыв, что исполнение такого изощренного разврата требует больших издержек и доступно лишь для очень богатых людей, а мой муж всю свою жизнь был в денежных тисках. Ссылка Страхова на профессора ПА Висковатова для меня тем поразительнее, что профессор никогда у нас не бывал; Федор же Михайлович имел о нем довольно легковесное мнение…
С своей стороны, я могу засвидетельствовать, что, несмотря на иногда чрезвычайно реальные изображения низменных поступков героев своих произведений, мой муж всю жизнь оставался чуждым „развращенности“. Очевидно, большому художнику благодаря таланту не представляется необходимым самому проделывать преступления, совершенные его героями, иначе пришлось бы признать, что Достоевский сам кого-нибудь укокошил, если ему удалось так художественно изобразить убийство двух женщин Раскольниковым.
С глубокою благодарностью вспоминаю я, как относился Федор Михайлович ко мне, как оберегал меня от чтения безнравственных романов и как возмущался, когда я, по молодости лет, передавала ему слышанный от кого-либо скабрезный анекдот. В своих разговорах муж мой всегда был очень сдержан и не допускал циничных выражений. С этим, вероятно, согласятся все лица, его помнящие.
Прочитав клеветническое письмо Страхова, я решила протестовать. Но как это сделать? Для возражения против письма было упущено время: появилось оно в октябре 1913 года, я же узнала о нем почти через год. Да и что такое значит возражение, помещенное в газетах? Оно затеряется в текущих новостях, забудется, да и многими ли будет прочтено? Я стала советоваться с моими друзьями и знакомыми, из которых некоторые знавали моего покойного мужа. Мнения их разделились. Одни говорили, что к этим гнусным клеветам надо отнестись с презрением, которое они заслуживают. Говорили, что значение Федора Михайловича в русской и всемирной литературе настолько высоко, что клеветы не повредят его светлой памяти; указывали и на то, что появление письма не вызвало даже никаких толков в текущей литературе, до того большинству пишущих была ясна клевета и понятен клеветник Другие говорили, что, напротив, мне необходимо протестовать, помня пословицу: „Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque chose!“ „Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется!“ (франц.) Говорили, что из того обстоятельства, что я, посвятившая всю свою жизнь служению мужу и его памяти, не нашла возможным опровергнуть клевету, могут вывести, что в ней заключалось что-нибудь верное. Мое молчание явилось бы как бы подтверждением клеветы.
Многие, возмущенные письмом Страхова, находили, однако, что одно мое опровержение недостаточно. Что следует друзьям и лицам, с добрым чувством помнящим Федора Михайловича, написать протест против взведенных на него Страховым клевет. Некоторые лица взяли на себя труд составления протеста и собирание подписей. Другие лица захотели выразить свое возмущение отдельными письмами. Многие из друзей моих высказали мнение, что, в противовес клевете, следовало бы приложить к протесту статьи (воспоминания), которые разновременно были напечатаны в журналах и рисуют Федора Михайловича, как необычайно доброго и отзывчивого человека. Следуя совету друзей, присоединяю как протест, так и статьи к моим воспоминаниям.
Говоря со многими лицами по поводу этого злосчастного, так омрачившего последние мои годы письма, я спрашивала, как они представляют себе, — что побудило Страхова написать его письмо? Большинство склонялось к тому, что это было „jalousie de metier“ — „профессиональная зависть“ (франц.), столь обычное в литературном мире; что, вероятно, Федор Михайлович по своей искренности, а может быть, и резкости, обидел Страхова (последний и сам говорит об этом), и вот явилось желание отомстить, хотя бы и умершему. Высказать свое мнение печатно Страхов не посмел, так как знал, что вызовет против себя слишком много защитников памяти Достоевского, а ссориться с людьми было не в характере Страхова. Одно из лиц, близко знавшее Страхова, высказало мне мысль, что своим письмом он хотел „очернить, принизить“ Достоевского в глазах Толстого. Когда я усомнилась в этом предположении, мой собеседник высказал свое мнение о Страхове довольно оригинальное:
„Кто, в сущности, был Страхов? Это исчезнувший в настоящее время тип „благородного приживальщика“, каких было много в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского, а по зимам ходит до определенным дням обедать к знакомым и переносит слухи и сплетни из дома в дом. Как писатель-философ он был мало кому интересен, но он был всюду желанный гость, так как всегда мог рассказать что-нибудь новое о Толстом, другом которого он считался. Дружбою этою он очень дорожил, и, будучи высокого о себе мнения, возможно, что считал себя опорою Толстого. Каково же могло быть возмущение Страхова, когда Толстой, узнав о смерти Достоевского, назвал усопшего своей „опорой“ и высказал искреннее сожаление, что не встречался с ним. Возможно, что Толстой часто восхищался талантом Достоевского и говорил о нем, и это коробило Страхова, и, чтоб пресечь это восхищение, он решил взвести на Достоевского ряд клевет, чтобы его светлый образ потускнел в глазах Толстого. Возможно, что у Страхова была и мысль отомстить Достоевскому за нанесенные когда-то обиды, очернив его пред потомством, так как, видя, каким обаянием пользуется его гениальный друг, он мог предполагать, что впоследствии письма Толстого и его корреспондентов будут напечатаны, и хоть чрез много-много лет злая цель его будет достигнута“.
Не разделяя исключительное мнение моего собеседника, я закончу этот тяжелый эпизод моей жизни словами письма Страхова: „в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости“…
Мне всю жизнь представлялось некоторого рода загадкою то обстоятельство, что мой добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жен, но почти преклонялся предо мною, как будто я была каким-то особенным существом, именно для него созданным, и это не только в первое время брака, но и во все остальные годы до самой его смерти. А ведь в действительности я не отличалась красотой, не обладала ни талантами, ни особенным умственным развитием, а образования была среднего (гимназического). И вот, несмотря на это, заслужила от такого умного и талантливого человека глубокое почитание и почти поклонение. (Лица, читавшие письма моего незабвенного мужа ко мне, не сочтут мои слова за бахвальство. (Прим. А. Г. Достоевской.)
Эта загадка для меня несколько выяснилась, когда я прочла примечание В. В. Розанова к письму Н. И. Страхова от 5 января 1890 года в книге „Литературные изгнанники“. Выписываю это примечание:
„Никто, ни даже „друг“, исправить нас не сможет; но великое счастье в жизни встретить человека совсем другой конструкции, другого склада, других всех воззрений, который, всегда оставаясь собою и нимало не вторя нам, не подделываясь (бывает!) к нам и не впутываясь своею душою (и тогда притворною душою!) в нашу психологию, в нашу путаницу, в нашу мочалку, — являл бы твердую стену и отпор нашим „глупостям“ и „безумиям“, какие у всякого есть. Дружба — в противоречии, а не в согласии. Поистине, Бог наградил меня, как учителем, Страховым: и дружба с ним, отношения к нему всегда составляли какую-то твердую стену, о которую — я чувствовал, что всегда могу на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет“.