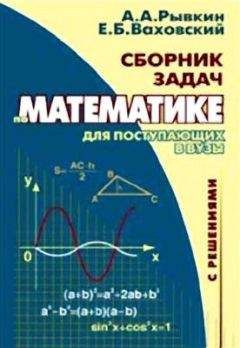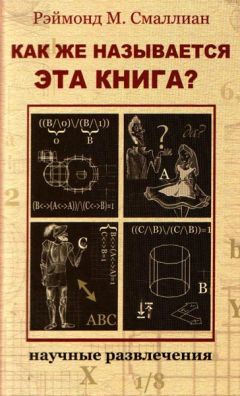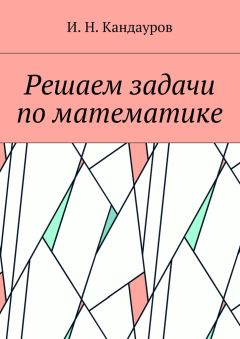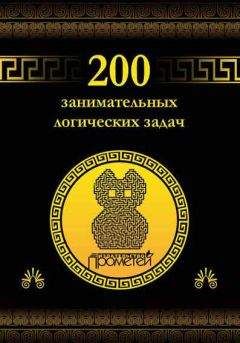Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
«Жерминаль»
«…Это был еще только первый толчок прогнившему обществу… но потом последуют новые, все новые толчки, пока старое расшатанное здание не рухнет и не провалится в бездну, как шахта Воре».
(Э. Золя. Жерминаль, ч. VII, гл. VI)«Я сошел в преисподнюю труда — и ничего не утаил…», — сказал Золя о тринадцатом романе серии «Ругон-Маккары». Писатель, вступивший «в борьбу с социальным злом», изучающий «формы, душу и жизнь огромного целого» обратился к среде, где он мог найти важнейшие проявления общественной борьбы. Тема труда, к которой он подошел в «Западне», в несоизмеримых с этим романом масштабах раскрылась в «Жерминале», на материале остром, жгучем. Слова Анри Барбюса о том, что произведения Золя сделали явной бесчеловечность капитализма, относятся к «Жерминалю» в наибольшей степени[170]. Суровая, мужественная книга Эмиля Золя говорила о коренных нуждах социальных низов, ставила проблемы экономические и объективно раскрывала неизбежность перерастания их в проблемы политические.
В письме от 16 марта 1884 года Золя известил Эдуарда Рода (швейцарского литератора): «Я собрал все материалы для социалистического романа…»[171]. Тему его автор в «Наброске» определил так: «Роман — возмущение рабочих. Обществу нанесен удар, от которого оно трещит». Писатель поставил целью показать в этой книге «борьбу труда и капитала».
Поль Лафарг в статье, посвященной роману «Деньги» (1891 г.), говорил о произведениях серии, созданных в ту пору, когда «талант Золя достиг полного развития» и писатель обратился «к большим социальным явлениям» и событиям современности: «Проложить роману новый путь, описывая и анализируя гигантские экономические организмы современной эпохи и их влияние на характер и судьбу людей, было смелым начинанием»; его достаточно, чтобы считать Золя новатором и ставить «на особое, исключительное место в современной литературе»[172].
В ряду произведений такого типа главное место принадлежит, несомненно, «Жерминалю» — книге, в которой Золя, анализируя социально-экономические процессы, подошел к основному противоречию буржуазного общества и поднялся до огромных обобщений. В рукописях Золя сохранилось около 20 вариантов названия романа, передающих с разной степенью точности идею книги: «Надвигающаяся гроза», «Прорастающее семя», «Дом трещит», «Сгнившая крыша», «Дыхание будущего», «Кровавые всходы», «Подземный огонь»… Писатель избрал «Жерминаль» — обозначение седьмого месяца (с 21 марта по 19 апреля) республиканского календаря, установленного Конвентом во время Великой французской революции — название, которое говорило не только о разрушении, но передавало мысль о весенних всходах, о зарождении новой жизни.
В переписке Золя за 1884 год не раз можно встретить признания, что работа над новым романом продвигается с невероятным трудом («Эта дьявольская книга — крепкий орешек»); 25 января 1885 года «Жерминаль» был закончен и в марте вышел отдельным изданием. Официальная критика Третьей республики, встретив с ожесточением одну из первых книг об организованной борьбе рабочего класса, стремилась любыми средствами приглушить ее общественное звучание. Новизна темы, смелость постановки проблем и эстетических решений, большая сила идейного и морального воздействия «Жерминаля» поразили читателя.
«Творческая манера заключена в особенностях зрения», — писал Золя Анри Сеару о своей художественной системе в «Жерминале». «Особенности зрения» и — шире — восприятия побуждали его отыскивать и извлекать обобщенный смысл из увиденного, укрупняя при этом интересующую его сторону. «Гипертрофия выхваченной из жизни детали», когда художник, «отталкиваясь от трамплина непосредственного наблюдения», абстрагирует образы в нужном ему направлении и возводит их в степень символа — эти черты присущи реализму Золя в «Жерминале». Но вымысел, сказал автор в этом письме, «думается мне, не отступает от столбовой дороги правды»[173].
* * *На открытой равнине, над которой мартовский ветер несся безостановочно, «словно ледяной морской шквал», дорога, тянувшаяся десять миль, сделала поворот. В беззвездной ночи Этьен Лантье увидел огни: «будто три чадных луны» висели над землей. Показалась фантастическая громада, «тонувшая в дыму и мраке», стало слышно ее дыхание, «могучее, протяжное…». Громада постепенно выступала из темноты, три гигантские чугунные жаровни с углем освещали и обогревали место работ. Обрисовались сгрудившиеся приземистые кирпичные строения, копер над спуском в шахту, большое помещение для подъемной машины, башня, где пыхтел водоотливной насос. Мелькали движущиеся силуэты людей. «Теперь шахта Ворё перестала быть смутным видением»,
Но и вблизи она напоминала «притаившегося ненасытного зверя, готового поглотить весь мир», — осевшая в ложбине, «выставившая кверху дымовую трубу, словно грозный рог»; а беспрерывное пыхтение насоса казалось «сдавленным дыханием чудовища». Элементы. зрительные и звуковые слились в одном образе.
Старик-возчик заговорил с пришельцем: «Нет, работы нет». Еще три-четыре года тому назад трубы дымились, рабочих рук не хватало; сейчас — «сущая беда»: рабочих рассчитывают, предприятия закрываются. Кризис коснулся разных отраслей промышленности. Старик называл невидимые во мраке места, указывая рукой и к северу и к югу. Одна из трех доменных печей на металлургическом заводе в Маршьенне погашена. Машиностроительные мастерские потеряли две трети заказов, на стекольном заводе назревает забастовка из-за снижения заработной платы. Паровая мельница, канатная фабрика, один из сахарных заводов еще держатся, другой — закрыт…
Мгла, лежавшая кругом, как бы ожила. Рука старого рабочего «наполнила ее образами великих бедствий», которые Этьен «ясно ощущал повсюду вокруг себя на огромном пространстве. Казалось, над голой равниной вместе с мартовским ветром катился вопль голода», стремительно приближались нужда, смерть, которые погубят множество людей «в стране угля и железа». Ожившая (не за счет бытовых подробностей) среда придала экспозиции «Жерминаля» ту степень обобщения, которая позволит воспринимать конфликт романа в широких социальных масштабах. Появление в картине множества конкретных фигур не разрушит характера высокой обобщенности повествования. Тон, найденный в экспозиции романа, сохранится до самого конца.
Еще до рассвета по дороге от спящего поселка двинулись к Ворё вереницы теней. Углекопы, одетые в блузы из ветхого холста, шли, согнув плечи, держа руки скрещенными на груди — привычная поза, дававшая отдых перетруженному на всю жизнь телу[174]. За спиной у каждого вырастал горб от запрятанного под блузой ломтя хлеба. Вместе с ними и новый рабочий, нанятый все же на место умершей откатчицы, начал свой первый день в шахте.
Этьена «оглушила и ослепила» шахта. Увиденная им впервые, она открылась с таких сторон, на которых привычный взгляд может и не остановиться. За первым, целостным впечатлением последует целый ряд фактов, множество технических подробностей, касающихся устройства шахты и ее работы. Но олицетворенные образы останутся и раскроют обобщенный, символический смысл многих сцен.
«Бесшумно, мягким крадущимся движением ночного хищного зверя» из темноты всплыла клеть и, затормозив, остановилась. Началась погрузка рабочих для спуска вниз. «В течение получаса шахта таким образом проглатывала людей то быстрее, то медленнее, смотря по глубине яруса, куда они опускались, но безостановочно и алчно, как бы набивая свои исполинские кишки, способные переварить целый народ». Этьен дожидался своей очереди: клеть подымалась из бездны «все так же беззвучно и жадно»; людей грузили «все больше и больше, как скот… В скудном свете лампочек видны были только сгрудившиеся тела». Перед Этьеном во время спуска «внезапно, как молния, промелькнула освещенная — пещера»; там двигались люди — первый ярус. Артель Маз, куда приняли нового откатчика, спускалась прямо «в преисподнюю» — в шестой ярус; здесь (dansl'enfer) запутанные черные ходы и зияющие галереи тянулись целые километры. «Поезда вагонеток, то нагруженных, то пустых, беспрестанно, с грохотом… встречались и уходили в темноту; их тащили лошади, которые двигались, словно призраки…» В одной из штолен «дремал остановившийся поезд, похожий на спящую черную змею…»; туловище лошади казалось «глыбой, выпавшей из свода…».
Какие-то существа, одно — маленькое, другое — громоздкое, оба — напоминающие животных, присевших на задние ноги (deux betes accroupies) толкали вагонетки. Это — десятилетняя Лидия, дочь грузчика Пьерона, и толстуха Мукетта — веселая, распущенная, добрая Мукетта. Подальше Этьен увидел кого-то, похожего на «черного муравья», борющегося с непосильной ношей. Это снова была Лидия, которая теперь уже одна, «надрываясь… напрягая свои хилые руки и ноги», катила вагонетку. Работа была в разгаре: со всех сторон слышались «оклики подручных да сопение откатчиц: они добирались до галереи запаренные, как кобылы, изнемогая под непомерной тяжестью груза».