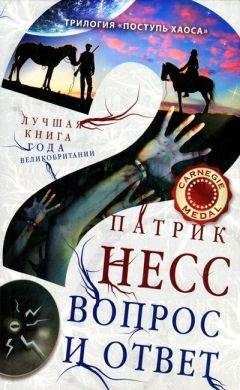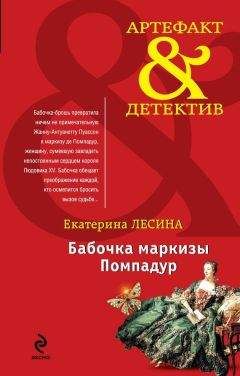Александр Лавров - Русские символисты: этюды и разыскания
1916. Вал<ерий> Брюсов».
Черновое предисловие было продумано и обработано Брюсовым в гораздо большей мере, чем самый сборник «Новые стихи Нелли». Цельного, законченного по композиции произведения, книги стихов в брюсовском понимании он собой не представляет; это всего лишь неупорядоченная подборка стихотворений, многие из которых — черновики и даже предварительные наброски. По тематике и доминирующей стилевой тональности новые опыты выдержаны в основном в тех же традициях, что и «Стихи Нелли», некоторые из них относятся к 1912–1913 гг., т. е. уже существовали при подготовке первого сборника. Во многих стихотворениях отчетливо выражена установка на «эгофутуристическую» стилизацию. Необходимо, однако, отметить, что в подборке для новой книги гораздо больше стихотворений остродраматического звучания, чем в «Стихах Нелли»; возможно, что в этом по-своему отразились переживания Брюсова после гибели Львовой, возможно, сказались также отзвуки изменившейся исторической ситуации (так, стихотворение «И многое, многое, многое…» навеяно, по всей вероятности, событиями Первой мировой войны).
Трудно с уверенностью сказать, что именно помешало Брюсову полностью осуществить свой замысел. Скорее всего, уже само время не способствовало его окончательному воплощению. Предисловие к «Новым стихам Нелли» Брюсов писал в 1916 г., когда сборника как сформированной книги еще не существовало (хотя, судя по тексту предисловия, он планировался, как и «Стихи Нелли», небольшим: 20–30 стихотворений). События двух революций и активное включение Брюсова в общественную деятельность неизбежно должны были отодвинуть его новый мистификаторский замысел на задний план.
Рукописный макет сборника «Новые стихи Нелли» представляет собой подборку стихотворений, сохранившуюся в архиве Брюсова и систематизированную вдовой поэта, И. М. Брюсовой, после его кончины. В своей работе над творческим наследием Брюсова Иоанна Матвеевна, как правило, старалась бережно соблюдать авторскую волю, а также установленный им порядок в расположении рукописей и относящихся к ним материалов. Поэтому в нижеследующей подборке текстов мы, не имея никаких иных достоверных данных о том, какою Брюсов предполагал видеть свою книгу, не сочли возможным менять состав и последовательность стихотворений, установленные в макете. Из подборки изъято только стихотворение «Она ждет» («Фонарь дуговой принахмурился…»), включенное Брюсовым в книгу «Девятая Камена»[642]. При этом установленная в макете последовательность стихотворений никак не должна восприниматься как продуманная авторская (или редакторская) композиция. Более того: элемент случайности нельзя исключать даже в отношении состава сборника; весьма вероятно, что некоторые стихотворения, попавшие в подборку, не предназначались для «Новых стихов Нелли». В частности, сомнительна принадлежность «Нелли» таких стихотворений, как «Лето, меркни, в осень канувши…» (3) и «Из дневника. 2» (14), написанных от лица мужчины; юмористического стихотворения «Городская весна расплескалась…» (7), стихотворения «Вы знаете, что значит быть голодной…» (22), героиня которого явно не согласуется с образом Нелли. Однако и изымать эти не публиковавшиеся автором стихотворения из подборки у нас нет достаточных оснований. Не исключено, что в намерение Брюсова входило не только сочинение стихотворений, представляющих собой непосредственную исповедь его героини, но и создание системы двойных масок: как и любой поэт, «Нелли» в своих стихах имела полное право говорить не от собственного имени.
Тексты воспроизводятся по автографам и авторизованным машинописным копиям, хранящимся в архиве В. Я. Брюсова в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Ф. 386. Карт. 13. Ед. хр. 4). За исключением стихотворения «Узором исхищренным pointe-de-Venise…», опубликованного за подписью «Нелли» (Крематорий здравомыслия (Мезонин поэзии. Вып. Ill — IV). <М.>, Ноябрь — декабрь 1913. С. <14>), все стихотворения до подготовки настоящей работы не публиковались.
<1>[643]Как мотив надоевшего танго,
Жизнь томит своей белой канвой.
Так же скучно над черной Невой,
Как мне было б над желтым Гоанго.
Вкусы терпкие жизненных вин
С каждым днем все преснее, преснее…
Светы гаснут в вечерней аллее…
Или гаснет вечерний камин?
Раздуть ли потухшие угли?
Саламандрам дать ли плясать?
Ах, не вдруг ли,
Как они, огни оборвать!
Сладко нежит холодное дуло,
Прижимаясь прямо к виску…
Быть может, я заснула
И в грезах вижу тоску?
Друг шестизарядный!
Скучный мотив развей!
Я проснусь весело-нарядной
В толпе веселых людей!
И многое, многое, многое
Великое видеть пришлось:
Словно [645] шоссе пологое
Пропастью оборвалось.
Как карточные домики, падали
Государства — под ветром судьбы —
Люди не знают, жить надо ли,
Когда все стали — рабы!
Свободы божественным маревом
Любовались в пустыне мы все,
А теперь пригоршни оспариваем
Воды на песчаной косе…
Но в душе мечта лишь единственная:[646]
«О, если б мы были вдвоем!»
Словно обряд совершая таинственно,
Я плачу об нем![647]
И многое, многое, многое
Свершилось великое, грозное,
И многое видеть пришлось![649]
И многое, многое, многое
Великое — видеть пришлось!
Шоссе пологое
Пропастью оборвалось!
Как картонные домики падали
Государства — под ветром судьбы, —
Ах! жить надо ли,
Когда все — рабы?
Возникали надежды и рушились, —
Грохотом наполняя мир…
Вон — все прислушались,
Поняв, что кругом — Валтасаров пир.
Но пусть и рука грозно-огненная
Лето, меркни, в осень канувши,
Ясный август, сентябрей!
В жизнь ночей беззорьных глянувши,
Не хочу безночьных дней!
Светы майские — предатели[651],
Как мячом, играли мной.
Пусть же щелкнут выключатели,
Заливая душу тьмой.
Не в беспечном смехе тенниса
Утолить мечту дано:
Звезды мечет, бело пенится
Мира вечное вино!
Плотно сдвинут темный занавес
В этой комнате и в днях…
В тайнах мрака и обмана весь,
Пью позор в немых устах.
Узором исхищренным Pointe de Venise
Я тешу в тихий вечер мой призрачный каприз;
В моей зеркальной спальне, одна, пред тем как лечь,
Любуюсь отраженьем моих округлых плеч.
Над зеркалом сгибаясь, размеренным лучом
Блистают шестиножки под выпуклым стеклом.
Их сестры, в пышной люстре, смеются с потолка,
Глядя, как с цветом кружев слилась моя рука,
Как странно-бледен, в глуби сияющих зеркал,
Под сном венецианским моих грудей овал [653],
Миров зеркальной жизни раскрыта глубина,
И я, себе навстречу, иду, повторена;
Иду, смеюсь, шепчу я: «Итак, я вновь жива!»
А на грудях трепещут живые кружева.
Что же делать теперь мне, если жизнь переломлена?
В мгле волшебно-вечерней над усадьбой разгромленной [655],
Над столбами пожарищ я склоняюсь в последний раз…
Кто со мной? — мой товарищ, этот тихий закатный час[656].
Что отыщется в пепле? что найти мне желаннее?
Обгорелые стебли мной любимой латании!
Переплет от тетрадки, — дневника позабытых лет?
Иль под старой перчаткой из ларца дорогой портрет?[657]
Не хочу ничего я: все, что было, отброшено![658]
Да не встанет былое, гость отныне непрошенный!
Меж развалин усадьбы не пойду я на поиски:
Только в сердце сломать бы этот ужас слепой тоски![659]
И куда не пойду я от столба перепутия[660],
Захочу ль поцелуя, захочу ль новой жути я, —
Не вернусь к этим липам, к этим призракам прошлых лет, —
Пусть здесь вороны, с хрипом, расклюют дорогой портрет[661].
Как острый ликер — этот воздух,
С зеленой маркой: «Апрель».
Ласточки, под крышею, в гнездах,
Как влюбленные, щебечут мне: «Нелли!»
Солнце ярче огней ресторана…
Ах, покрыть бы его колпачком!
Меж березок-белянок мне странно,
Но они говорят мне: «Ты — дома!»
На мне светло-серое платье;
По моде, я шляпу сняла.
Кто за это утро заплатит,
В которое так весела я?
Ласточки щебечут мне; «Нелли!»
Прополз коронованный уж.
Не он ли, старый бездельник,
Меня пригласит на ужин?
Городская весна расплескалась
Вдоль по улицам грязью кофейной;
И тропы, чтоб пройти, не осталось
Через площадь до бани семейной.
Но безумолчно хлопают двери,
За четой принимая чету:
Словно звери добычу к пещере,
Господа волокут красоту.
Подъезжают в закрытой пролетке
Словно дамы под белой вуалью;
Подъезжают беспечно красотки,
С перекинутой за-плечи шалью;
Приближаются пары попроще;
В картузе он, в платочке она,
Или юноша, длинный и тощий:
На подруге — плакат: «продана».
Двери хлопают. В воздухе гретом,
Где стучит беспрерывно сверчок,
С адвокатом, с купцом иль с поэтом[664]
Запирается кто на крючок?[665]
В водяной обстановке свиданий
Там, за час, что изведать дано?[666]
Ах, вы бани! семейные бани!
Вижу: вешают надпись — «полно!»
Милый «Lift» с лиловой неулыбкой,
Ангел, мальчиком наряженный ошибкой,
На восьмой меня протяжно проэтажь,
Милый «Lift» с лиловой неулыбкой,
Подымающихся поздний паж!
Посмотрю, припомню, позабуду,
Каменный зрачок, подобный изумруду,
Фиолетовость полувампирных губ,
Посмотрю, припомню, позабуду
В ангелочка превращенный труп[668].
Но, грудь с грудью, на дневной кровати,
Тайно вдруг найду в кольце своих объятий
Ангелочка мертвого, как ты, точь-в-точь:
Грудь под чьей-то, на дневной кровати,
Я тебя в свою пролифтчу — ночь!
Открываю глаза и гляжу в пустоту.
Кто-то провел
В темноте огневую черту.
Мол[670];
Белые гребни
Разбитой волны;
Столб луны,
Я стою на прибитом щебне[671].
Это было,
А, может быть, этого не было.
Мертвое тело на поверхность всплыло…
Или только сердце потребовало,
Чтобы что-нибудь было.
Зыбью прибрежной раздроблена
В море луна.
Я на моле стою, опечалена, сгорблена,
Одна.
Полосами: сиянье и мрак;
Во мгле мигает маяк;
Никто моей печалью не тронется.
Нет, не так![672]
Это — бессонница:
Луч провел на полу огневую черту,
Я, проснувшись, гляжу в пустоту.
Да, в жертву тебе я все принесла:
Богатство, — хотя б оно было не право, —
Известность, — хотя б она дышала отравой[674],
Любовь, — хотя б она продажной была!
Я все отдала ради поцелуев твоих:
Как свои бриллианты, так и свои улыбки,
Свои мечты, как свои ошибки,
Свои безумные ночи, как свой священный стих.
Я все, я все положила к твоим ногам:
Я целовала покорно у тебя колени,
Я принимала с восторгом боль унижений[675], —
И думала, что все люди завидуют нам.
И ты, склонив <?> свой земной ореол,
Брал это тело, и эти стоны слушал,
Целовал эти губы и убивал эту душу,
Взял все, что могла я дать, — и ушел.
Я желала бы снова веселья и смеха,
Но как мне жить без тебя.
Кутаюсь в белые волосы меха,
Концы боа теребя.
Дерзко заглянул мне в лицо прохожий —
Ах, я иду пешком.
Мы с ним когда-то гуляли тоже,
Но вдвоем.
Majestic, Soleil, пассаж, квисисана,
Дневные витрины, толпа —
С каждым шагом в сердце новая рана,
Но боль тупа.
В три ряда экипажи, авто, пролетки [677].
Кто-то поклонится <?> мне.
Он еще не забыл обедневшей кокотки,
Но былое — было во сне![678]
Голову подыму из белого меха,
Концы боа теребя.
Кто хочет со мной веселья и смеха? —
Нет <?>, мне не жить <?> без тебя.
Глянец яблок, апельсинов круговые кирпичи, —
Вся витрина магазина блещет, близится, кричит!
Рев авто, свистки циклистов, трама гуд и трама звон…
Вьет[680] вечерняя столица роковой водоворот.
Что ж, под шляпкою измятой, грусть в глазах, ты медлишь час?
Пред иконой, — ах! — так тает в церкви блещущей свеча.
Не придет он, обманул он! Яркость грохота кругом,
Жизнь поет угрюмым гулом: «Он с другой! с другой! с другой!»
Что ж ты гнешься низко, низко, цветик бедный на лугу?[681]
Рев авто, циклистов взвизги, трама звон и трама гуд…
Не уступи под гнетом лени,
Жизнь требует вновь пестрой дани:
Еще томлений,
Еще страданий!
Иди, где дымны влагой дали:
На небе утром роза будет![683]
О чем гадали,
Ум позабудет![684]
И будь, в пути слепом, иная,
Забыв садов греховных розы,
Припоминая
Все, словно грезы!
2
И мы, разорванностью сближены,
Взглянули в тесное стекло,
Где призраки непостижные
Колышатся светло.
Ты узнала мой лик отуманенный,
Я — твой младенческий рот…
Так двух звезд отраженье, приманено
Гладью вод,
В глубине живет.
Целуясь над пространствами,
Сближаясь в беспредельности,
Лучисто светило в новых небесах
Мы, — символ постоянства,
Дрожь над движеньем бесцельности
Полярной звезды, уходящей чуть зримо в веках…
Режут хрупко сани снег;
Нежит жутко ранний бег.
Где туманы белой ночи?
Светом пьяны смело очи!
Было что-то, или нет?
Смыл заботы лилий свет!
Пусть звала я вялой лаской:
Грусть былая стала сказкой, —
Славно вспомнить мне об ней[687]
В ровном, томном сне саней![688]
Ночь остыла; — тени страсти…
Прочь, что было! день у власти!
Месяц белый, словно пьяный
Навзничь лег на облаках;
Даль закутана в туманы, —
Крэп на чьих похоронах?
Нет, не то! Мой сон — не это!
Я дрожала с ним вдвоем,
В темной комнате без света,
Грудь на грудь, к лицу лицом.
Нет, не то! Я задремала
На постели у себя,
Называла, призывала
Имя милое, любя…
Нет, не то! Я вдруг проснулась
И пошла к нему, к нему —
И дорога протянулась
Через светы, через тьму.
Я иду, и месяц пьяный
Навзничь лег на облаках;
Даль закутана в туманы,
Крэп на чьих похоронах?
Чего ж они хотят? Все это так знакомо!
И ощупь рук во мгле, и заглушенный вскрик,
И миг, качаемый бессмысленной истомой…
Ах! с детства ко всему не каждый ли привык?
Чего ж им надобно? Моей притворной дрожи,
Мной согласованной с их трепетами в лад?
Касанья беглого моей горячей кожи,
Струящей вкруг себя пьянящий аромат?
Нет! — лишь сознания, что мы смеялись вместе,
Лишь славы, что он был любовником моим,
Среди своих друзей позорно-громкой чести:
Затем что платят мне дороже, чем другим…
Мальчик милый, мальчик маленький,
Почему ты мне так мил?
Ты в петлицу цветик аленький
Так лукаво посадил.
У тебя и губы алые
Словно розы лепестки.
Но твои глаза усталые
Дышат прелестью тоски.
Мальчик милый, друг обманчивый,
Но о ком твоя печаль?
Прошепчи, но не доканчивай, —
Разувериться мне жаль.
Дай мне в слове недосказанном
Имя Нелли угадать.
На месяц взглянь, весь день, как облак тощий.