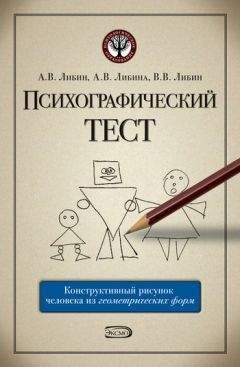Нина Меднис - Венеция в русской литературе
Поэт уже в первой строфе определяет Венецию как некое фоновое пространство, по отношению к которому выстраивается весь образный ряд стихотворения, представляющий у В. Высоцкого российский, а в традиции русской литературы — петербургский мир. Однако в дальнейшей развертке лирического сюжета через сравнение поэт фактически приписывает Венеции черты, присущие не карнавальному, а именно маскарадному, то есть типично петербургскому, коммуникативному полю:
Петарды, конфетти! Но все не так…
И маски на меня глядят с укором.
Они кричат, что я опять не в такт,
Что наступаю на ноги партнерам!
Смеются злые маски надо мной,
Веселые — те начинают злиться,
За маской пряча, словно за стеной,
Свои людские подлинные лица.
… Я в тайну масок все-таки проник.
Уверен я, что мой анализ точен:
И маска равнодушья у иных —
Защита от плевков и от пощечин.
За сто лет до В. Высоцкого внешне сходный, но с совершенно иным семантическим наполнением сюжет, связанный на сей раз с вовлечением автора в подлинный венецианский карнавал, предложил А. И. Герцен в «Былом и думах». Естественно, что его текст лишен поэтических метафор, но это не мешает писателю достаточно ярко передать карнавальный характер общения. Для А. И. Герцена карнавал, как и сама Венеция, — место встречи в бахтинском понимании слова, место, где можно заговорить легко и непринужденно с незнакомым человеком, протянуть руку неизвестной красавице… И все это в атмосфере всеобщей радости и приятия другого.
Как место почти невозможной в других условиях встречи не только конкретных людей, но разных времен и пространств рисует венецианский карнавал Е. Рейн:
На колокольне
Колотят мавры,
Везде привольно
Стоят кентавры,
Где Византия
Сроднилась с Римом
В одном созданье
Неукротимом.
Уникальный для литературной венецианы вариант столкновения маскарадного, по ряду признаков, советского мира с венецианским карнавалом представлен в пьесе А. Галина «Группа» (1990). Карнавальная атмосфера и фон задаются здесь прежде всего авторскими ремарками и лишь во вторую очередь репликами героев. В этом смысле пьеса как текст для чтения дает едва ли не больше, чем ее сценическое воплощение, ибо ремарки вписывают «Группу» в обширный контекст мировой венецианы, оплотняют разнообразными аллюзиями ее художественное пространство и ставят героев не только перед миром с иными идеологией и социальным укладом, но и перед иной культурой. Ремарки образуют в пьесе свой фоновый сюжет, который развивается, движется, достигает апогея и остается открытым в конце произведения.
Описание места действия в начале пьесы выступает как предвестник грядущих событий: «Венеция. Февраль. Время карнавала. Первые вечерние огни дрожат, бликуют в каналах, бегут навстречу еще далекому, собирающему толпы празднику. Хлоя стоит у раскрытого окна, слушает сладостную, разрывающую душу песню. Клава рядом»[180]. Текст этого описания странным образом смешивает повествовательные интонации и манеру художественной прозы с функциональными авторскими указаниями «господам актерам». Как в художественной прозе, здесь возникает некий семиотический ряд, подсказывающий развитие основных сюжетных линий: Хлоя и Клава, такие разные и все-таки наиболее близкие и открытые самому духу венецианского карнавала, рядом у раскрытого, как бы навстречу празднику, окна. В первой картине пьесы сталкиваются карнавал и мероприятие, намеченное руководителем группы именно на это время, несмотря, а может быть, и вопреки карнавалу. Однако в этой знаковой борьбе миров карнавал побеждает: «Хлоя выходит, Клава за ней. Шум толпы и музыки за окном становится больше. Вместе с надвигающейся темнотой ночи приближаются и огни. Входят Рубцова и Потаповский» (19). Эти два героя, в противовес живым и часто непосредственным Хлое и Клаве, являются воплощенными символами советской эпохи. Правда, и для них карнавальная Венеция становится местом любовной встречи, и по ходу сюжета Рубцова до некоторой степени ослабляет путы идеологии и давление мундира, но это герои не карнавальные. Неслучайно их диалог, как лейтмотивом, сопровождается ремаркой «Молчание». Клише в речи Рубцовой, когда она говорит о Венеции («Город-сказка!») свидетельствуют об отсутствии у нее своего слова для этого города, то есть о ее внутренней чуждости ему.
Первой из героев включается в карнавал искусствовед Хлоя, и тут в пьесе возникает тень известного сюжета советской венецианы о гондольере, любящем Россию, но уже как сюжета изображенного, отстраненного и, что очень важно, данного с голоса Потаповского:
Входит Хлоя в маске.
Хлоя. Я пришла сказать: там начинается карнавал, поэтому я ухожу, меня не будет.
Рубцова. Зайдите! Что вы там остановились в дверях? Хлоя. Нет-нет! Спасибо! Я поднялась сюда, чтобы вас предупредить…
Рубцова. Подождите, с вами хотят побеседовать. Снимите маску.
Хлоя зашла, но осталась у двери.
Потаповский. Потаповский Алексей Николаевич — консул Советского Союза.
Хлоя. Садовская — искусствовед Советского Союза.
Молчание.
Потаповский. Прокатились на гондоле? (Пауза) Много взял с вас каналья?
Хлоя. Совсем ничего — у меня уже нет денег.
Рубцова. Зачем же вы сели без денег?
Хлоя. Вот подарил мне маску.
Рубцова. Снимите, я вам сказала, это безобразие с головы!
Потаповский. Занятная маска. Прогулка, значит, была короткой?
Хлоя. Он оказался неаполитанец. Такой трудный акцент у него — я не все поняла.
Потаповский. Бесплатно проехались — авторитет, значит, советский срабатывает у простых итальянцев? (24)
Реплики Рубцовой диссонируют с говорящими о карнавале авторскими ремарками. По мере приближения музыки и шума чуть приоткрывшаяся было героиня снова наглухо замыкается, надевая на себя внекарнавальную маску верноподданного советского чиновника. Пик размежевания двух миров также фиксируется в ремарке:
«Тускнеет комната Общества дружбы, но вспыхивает Венеция, дождавшаяся, наконец, своего карнавала» (31). Далее венецианский карнавал вполне проявляет свою природную сущность и силу, снимая национальные, социальные и идеологические барьеры между людьми и вовлекая в свою праздничную цельность таких разных героинь, как Клава, Катя, Лена и вообще большинство героев пьесы: «Ночь в Венеции. Разгар карнавала. За раскрытым настежь окном вспыхивают огни, что-то грохочет, наступая друг на друга. Бьют бубны, звучат оркестры, им вторят голоса тысячной толпы. Входят Клава, Катя и Лена, в карнавальных костюмах, продолжая громко во все горло петь: „Выходила, песню заводила про степного сизого орла. Про того, которого любила…“» (31).
В момент завершения сюжетного развития, когда герои прощаются с Венецией, а Хлоя говорит о конце карнавала, снова возникает функционально не равная себе авторская ремарка, напоминающая фрагмент «венецианского» повествовательного текста, в который как бы вписан текст пьесы «Группа»:
Хлоя (у окна). Гондольере! Гондольере! Иль карнавале э джа финито?
Клава. О чем вы хоть с ним толкуете?
Хлоя. Я спрашиваю, почему стало так тихо? Я спрашиваю, кончился карнавал?
Клава. А он?
Хлоя. А он не слышит. Эй, гондольере! Иль карнавале э джа финито? Иль карнавале…
Но вместо ответа с грохотом и треском
взрываются тысячи огней! Блаженным
трепетным светом озаряется Венеция.
Нет! Нет! Ничто не кончается на свете!
Не кончается Венеция! Не кончается карнавал.
Обе женщины смотрят в распахнутое окно.
То ли улыбаются, то ли плачут… (39).
Таким образом, венецианский карнавал, как он представлен в ряде произведений русской венецианы ХХ века, противостоит не столько нормативному миру вообще, сколько вполне конкретному советскому нормативному миру.
В целом проблема «Венеция и Россия» в культурно-историческом ключе оказывается в ХХ веке актуальной для многих писателей. Вне карнавальных аллюзий, и потому в отличном от рассмотренного, уникальном в своей единичности варианте она начинает звучать уже в «Охранной грамоте» Б. Пастернака, где автор обнаруживает взаимопроекции советской тоталитарной системы и венецианской истории, выраженной в многочисленных знаках внутреннего венецианского мира. Б. Пастернак толкует о Тинторетто, явно видя его изнутри российской действительности 20–30-х годов, из сферы своих собственных проблем и переживаний, и на примере венецианской исторической жизни предлагает разгадку творческого всплеска в условиях тоталитарного режима. Вторая половина 20-х годов была в жизни Б. Пастернака временем творческого подъема. В эту пору им написаны «1905 год», «Лейтенант Шмидт», «Спекторский», множество стихотворений. Очевидное несоответствие внешней обстановки и внутренней потребности творить, видимо, нуждалось в объяснении, каковое и появилось на венецианских страницах «Охранной грамоты». Проблема «Художник и время» и поднимается им в связи с венецианской живописью. При этом Б. Пастернак настойчиво подчеркивает: «Я глядел на это зрелище глубже и более расплывчато, нежели это выразят теперь мои формулировки. Я не старался осознать увиденное в том направлении, в каком его сейчас истолкую. Но впечатления сами отложились у меня сходным образом в течение лет, и в своем сжатом изложении я не удалюсь от правды» (250); «наконец, недостаточно оценив эти впечатления в то время, я узнал, как мало нужно гению для того, чтоб взорваться» (250); «Однако в те дни я не входил в эти тонкости. Тогда в Венеции, и еще сильнее во Флоренции, или, чтобы быть окончательно точным, в ближайшие после путешествия зимы в Москве мне приходили в голову другие, более специальные мысли» (251). Эти «специальные мысли» были связаны с соотношением в истории культура легенды и конкретного момента, и тут же Б. Пастернак снова акцентирует временную разность восприятия: «Вот чем я тогда интересовался, вот что тогда понимал и любил… Но я был молод и не знал, что это не охватывает судьбы гения и его природы. Я не знал, что его существо покоится в опыте реальной биографии, а не в символике, образно прямолинейной. Я не знал, что, в отличие от примитивов, его корни лежат в грубой непосредственности нравственного чутья… Я не знал, что долговечнейшие образы оставляет иконоборец в тех редких случаях, когда он рождается не с пустыми руками» (252) [курсив во всех случаях наш. — Н. М.].