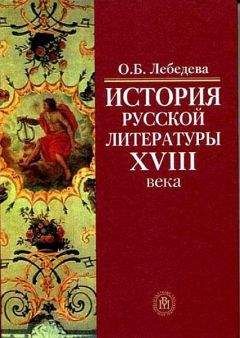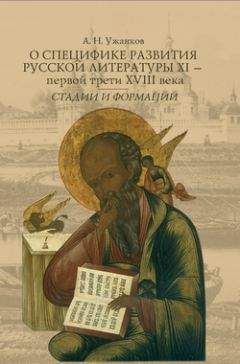Ариадна Эфрон - История жизни, история души. Том 3
«Но как же Вы — Вы, Серёженька...» — «А вот так: представьте себе вокзал военного времени - большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею, — все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга... Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается — минутное облегчение, — слава тебе, Господи! — но вдруг узнаёшь и со смертным ужасом осознаёшь, что в роковой суете попал - впрочем, вместе со многими и многими! — не в тот поезд... Что твой состав ушёл с другого пути, что обратного хода нет - рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком - по шпалам - всю жизнь...»
После этого разговора был написан Маринин «Рассвет на рельсах».
Вся дальнейшая жизнь моего отца и была обратным путём — по шпалам — в Россию, через препятствия, трудности, опасности и жертвы, которым не было числа, и вернулся он на Родину сыном её, а не пасынком.
Раннее детство мне вспоминается не как сон, а как первая в жизни, наиярчайшая явь, как сплошное открытие — сначала мира, чуть позднее — и самой себя в нём.
В истоках своих мир этот не мал и не велик, не плох и не хорош, он просто и бесспорно наличествовал, ещё вне сравнений и оценок. Наличествовали в нём и два совершенно новых, младенческих глаза, во всё впивавшихся и видевших всё, за исключением самой девочки, которой они принадлежали. Сама же девочка, как бы таившаяся до поры до времени в глубине собственных зрачков, осуществилась лишь вдень, когда, разглядывая, в который раз, ту, другую - в зеркале, вдруг отождествила своё живое «я» с условностью отражения. Отражение было не из приятных: белоголовое, насупленное, одетое в вельветовое полосатое платьице, обутое в башмаки с пуговками, оно строило рожи, топало ногой, высовывало язык и вполне заслуживало, чтобы его поставили в угол. Стояло, топало и высовывало до той поры, пока подлинник, внезапно пронзённый догадкой, не слился, в сознании своём, с копией. Тогда притихшее и несколько заискивающее «я» подошло к изображению, погладило его, с дружеским нажимом, как пуделя Джека, и прошептало — «Милая!».
Но это случилось впоследствии, а до этого был мир и ведавшая им и распоряжавшаяся мама, которую звали Марина. Мир всецело зависел от неё, по её воле детский день сменялся ночью, возникали из шкафа и исчезали в нём игрушки, вызываемая ими сдержанная скука («играть» я не умела, а ломать — не разрешалось) — уступала место восторгу обещанной прогулки с Мариной — почти со всем восторгом, если бы не все эти, маленьким ненавистные, капоры, башлыки, гамаши, калоши, варежки, тёплые штаны, застёжки, пряжки, крючки, пуговицы, пуговицы без конца!
По воле Марины мир ограничивался стенами детской или становился улицей, из зимы превращался в лето, распахивал и закрывал окна и двери, останавливался как вкопанный или благодаря извозчику, реже — поезду, преображался в движение, чтобы, угомонившись, вдруг назваться «дачей» или «Коктебелем».
Назваться. Ибо именно по Марининой воле всё видимое начало обозначаться словами и тем самым материализоваться, определяться, обретать форму, цвет и смысл. Невидимое, отвле- Аля Эфрон. Апрель 1914
чённое также началось со слов — с трёх китов человеческого бытия: «Нельзя», «Нужно», «Можно», — причём первое из них, повторявшееся чаще, усвоилось прежде двух остальных.
Маринино влияние на меня, маленькую, было огромно, никем и ничем не перебиваемоё и — всегда в зените. Между тем времени со мной она проводила не так уж много, гуляла не так уж часто, ни в чём не потакала, не баловала; всем этим в той или иной мере занимались няни, не оставившие в памяти надёжного следа, может быть оттого, что, не приживаясь к дому, часто сменялись.
С одной из них пришлось расстаться потому, что вместо скверика на Собачьей площадке она неукоснительно уводила меня в Николопесковскую церковь — выстаивать панихиды и прикладываться к покойникам. «А что тут такого, барыня, - говорила она разгневанной Марине, неторопливо собирая пожитки, - ангельская-то молитва скорее до Господа проникает, значит, у гроба и младенец при деле, не то что на этих ваших — тьфу! грех вымолвить! — площадках собачьих!»
Вторую уволили за то, что оказалась нечиста на руку, да и на язык: вместо «медведь» и «панталоны», например, произносила, — а вслед за ней и я, — «ведьмедь» и «полтолоны»; третья и последующие уходили, кажется, сами.
Ни одна из этих, или иных, перемежавшихся теней не заслоняла от меня Марину, постоянно как бы просвечивавшую сквозь всех и вся; к ней и за ней я постоянно тянулась, подобно подсолнечнику, и её присутствие постоянно ощущала внутри себя, подобно голосу совести, - столь велика была излучавшаяся ею убеждающая, требовательная, подчиняющая сила. Сила любви.
В ребёнке, которым я была, Марина стремилась развивать с колыбели присущие ей самой качества: способность преодолевать трудное и - самостоятельность мыслей и действий. Рассказывала и объясняла не по поверхности, а чаще всего — глубже детского разумения, чтобы младший своим умом доходил до заданного, а может быть, это заданное и опережал; приучала излагать — связно и внятно — увиденное, услышанное, пережитое - или придуманное. Никогда не опускаясь до уровня ребёнка, а неустанно как бы приподнимая его, чтобы встретиться с ним на той крайней точке, на которой сходятся взрослая мудрость с детской первозданностью, личность взрослого с личностью маленького.
Наградой за хорошее поведение, за что-то выполненное и преодолённое были не сладости и подарки, а прочитанная вслух сказка, совместная прогулка или приглашение «погостить» в её комнате. Забегать туда «просто так» не разрешалось. В многоугольную, как бы гранёную, комнату эту, с волшебной елизаветинской люстрой под потолком, с волчьей - немного пугающей, но манящей - шкурой у низкого дивана, я входила с холодком робости и радости в груди... Как запомнился быстрый материнский наклон мне навстречу, её лицо возле моего, запах - «Корсиканского жасмина», шёлковый шорох платья и то, как сама она, по неутраченной ещё детской привычке, ладно и быстро устраивалась со мной на полу — реже в кресле или на диване, — поджав или скрестив длинные ноги! И наши разговоры, и её чтение вслух - сказок, баллад Лермонтова, Жуковского... Я быстро вытверживала их наизусть и, кажется, понимала; правда, лет до шести, произнося «не гнутся высокие мачты, на них флюгеране шумят»9, думала, что флюгеране - это такой неспокойный народец, снующий среди парусов и преданный императору; таинственной прелести балладе это не убавляло.
Марина позволяла посидеть и за её письменным столом, втиснутым в простенок у маленького углового окна, за которым всегда ворковали голуби, порисовать её карандашами и иногда даже в её тетрадке, почтительно полюбоваться портретами Сары Бернар и Марии Башкирцевой10, потрогать пресс-папье — «Нюрнбергскую деву», страшную чугунную фигурку с шипами внутри, привезённую когда-то дедом из Германии, и чугунного же «царя Алексея Михайловича»; скрепку для бумаг в виде двух ладоней — пальцы были совсем как настоящие и цепко держали записи и счета; лаковую карандашницу с портретом юного генерала 1812 года Тучкова IV11; глиняную, посеребрённую птицу Сирин.
Из пузатого секретера доставалась большая книга в красном переплете — сказки Перро с иллюстрациями Доре, принадлежавшая ещё Марининой матери, когда она была «такой же маленькой, как ты». Я рассматривала картинки, осторожно, только что вымытыми руками, переворачивая страницы с верхнего правого угла; ничто так не возмущало Марину, как небрежное, неуважительное отношение к книгам; когда я нечаянно разбила одну из двух её любимых чашек старинного фарфора, - к счастью, не ту, что с Наполеоном, а ту, что с Жозефиной, и, заливаясь слезами, кричала: «Я разбила его жену! теперь он овдовел!» - меня не только не ругали, но ещё и утешали, а вот за какого-то «Стёпку-Растрёпку», разорванного, потому что он был противный, всклокоченный урод, «такой же, как ты, когда не хочешь мыться и причёсываться», пришлось-таки постоять в углу, мрачно колупая извёстку... Можно было смотреть картинки и в однотомнике Гоголя (приложение к журналу «Нива»). Там всё было нарисовано подробно, мелко и ещё не очень мне доступно. Как кочевник, воспевающий во всех подробностях возникающий перед ним пейзаж, так и я, на свой лад и нараспев, комментировала иллюстрации: «А вот лошадка едет... а вот господин разговаривает с дамой... А вот барышня просит у кухарки жареных обезьян...» «Барышней» была восставшая из гроба панночка, «кухаркой» — Хома Брут12, а «жареными обезьянами» — снующая во всех направлениях нечистая сила.
Иногда Марина заводила бабушкину музыкальную шкатулку с медным игольчатым валиком: вставлялся в неё картонный трафарет, накручивалась тугая ручка завода — и раздавалась мелодия менуэта или гроссфатера, отчётливая и негромкая, как весенняя капель; сколько трафаретов, столько и мелодий. Не менее чудесным, но более внушительным казался мне граммофон с трубой в виде гигантской повилики: в нём жили голоса цыганок. Всю жизнь любила Марина цыган - от пушкинских до уличных гадалок и деревенских конокрадов, за их воль-нолюбивость, особость, обособленность от окружающего, колдовские речи и песни, царственную беспечность... и ненадёжность.