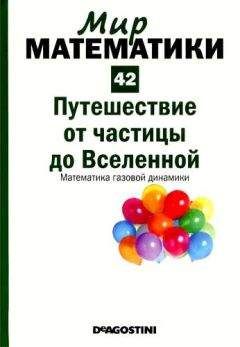О. Лебедева - История русской литературы XVIII века
В результате скрытые за эстетикой идеологические факторы предшествующей литературы, постепенно нарастая от сатир Кантемира до комедий Екатерины II, дали качественный взрыв публицистики в новиковских изданиях; в недрах же их чистой публицистики, небывало смелой по понятиям XVIII в., таится неприметное накопление эстетических факторов, которым предстоит такой же качественный взрыв в литературе 1780-х гг.
Спор о сатире и крестьянский вопрос как идеологическая и эстетическая категории сатирической публицистики
Центральные проблемы дискуссии новиковских изданий с журналом императрицы связаны с принципиально важными факторами своеобразия русской словесности XVIII в., которая являет собой сложный сплав идеологии и эстетики. В качестве центральной эстетической проблемы на страницах «Трутня» выступает вопрос о сатире как форме литературного творчества, ее социальной функциональности, допустимых рамках, характере и приемах; проблема сатиры возникает в журнале Новикова в ходе дискуссии с изданием Екатерины II «Всякая всячина». Центральной же идеологической проблемой новиковских изданий становится крестьянский вопрос, острозлободневный и, безусловно, очень болезненный в период 1769 («Трутень») – 1772 («Живописец») гг., непосредственно предшествующий пугачевскому бунту.
Начало спору о сатире положила публикация в 53 листе «Всякой всячины», подписанная псевдонимом «Афиноген Перочинов», в которой журнал императрицы попытался задать критерии образа сатирика, его нравственной позиции, объекта сатирического обличения (что нужно считать достойным осмеяния) и характера самой сатиры:
Я весьма веселого нрава и много смеюсь; признаться должно, что часто смеюсь и пустому; насмешником же никогда не бывал. Я почитаю, что насмешки суть степень дурносердечия; я, напротив того, думаю, что имею сердце доброе и люблю род человеческий. ‹…›
Был я в беседе, где нашел человека, который для того, что он более думал о своих качествах, нежели прочие люди, возмечтал, что свет на том стоит ‹…›. Везде он видел тут пороки, где другие ‹…› на силу приглядеть могли слабости, и слабости, весьма обыкновенные человечеству ‹…›.
Но после ‹…› расстались, обещав друг другу: 1) Никогда не называть слабости пороком. 2) Хранить во всех случаях человеколюбие. 3) Не думать, чтоб людей совершенных найти можно было, и для того 4) просить бога, чтоб нам дал дух кротости и снисхождения. ‹…› Я хочу завтра предложить пятое правило, а именно, чтобы впредь о том никому не рассуждать, чего кто не смыслит; и шестое, чтоб никому не думать, что он один весь свет может исправить» (47-48).
В характерном для текстов Екатерины приказном тоне здесь отчетливо сформулирована концепция так называемой «улыбательной сатиры»: сатирик – добродушный остряк, снисходительный к человеческим слабостям, сатира – безличная, легкая ирония по поводу несовершенства человеческой природы, не претендующая на серьезное исправление нравов. Впрочем, в своих собственных сатирических выпа дах «Всякая всячина» своих правил не придерживалась: рекомендация «от бессонницы лекарства» – прочитать «шесть страниц Тилемахиды»[84] имеет характер вполне личного выпада против Тредиаковского. Что же касается тона публикаций «Всякой всячины», направленных против «Трутня», то они являются просто грубыми; здесь и речи быть не может об использовании каких-либо художественных приемов сатирического творчества:
На ругательства, напечатанные в Трутне под пятым отделением, мы ответствовать не хотим, уничтожая оные; ‹…› Думать надобно, что ему хотелось бы за все да про все кнутом сечь. ‹…› мы советуем ему лечиться, дабы черные пары и желчь не оказывались даже и на бумаге, до коей он дотрогивается» (49-50).
Диаметрально противоположную позицию в полемике о сатире занял «Трутень». Корреспонденции «Трутня», посвященные проблемам сатиры, подписаны псевдонимом «Правдулюбов», который принадлежит самому Новикову[85]. В 5-м листе «Трутня» за подписью Правдулюбова появился ответ на правила «Всякой всячины»:
Многие слабой совести люди никогда не упоминают имя порока, не прибавив к оному человеколюбия. ‹…› По моему мнению, больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, который оным снисходит или (сказать по-русски) потакает. ‹…› Словом сказать, я как в слабости, так и в пороке не вижу ни добра, ни различия. Слабость и порок, по-моему, все одно, а беззаконие дело иное (540).
Уже этот полемический выпад характеризуется совершенно иной направленностью: в самой теоретической формулировке принципов сатиры на лицо заключен выпад против «Всякой всячины», поскольку текст Новикова оперирует почти точными цитатами из журнала Екатерины; о том же, что Новиков знал, с кем он имеет дело, свидетельствуют два намека: отсылка к идиоматике русского языка и мотив беззакония прямо указывают на императрицу, плохо владевшую русским языком и претендовавшую на роль не только юридической законодательницы, но и законодательницы нравов. В следующей корреспонденции Правдулюбова эта личная адресация еще заметнее:
Госпожа Всякая всячина на нас прогневалась и наши нравоучительные рассуждения называет ругательствами, но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думал. Вся ее вина состоит в том, что на русском языке изъясняться не умеет и русских писателей обстоятельно разуметь не может ‹…›.
Госпожа Всякая всячина написала, что пятый лист Трутня уничтожает. И это как-то сказано не по-русски; уничтожить, то есть в ничто превратить, есть слово, самовластию свойственное, а таким безделицам, как ее листки, никакая власть не прилична ‹…»› (68-69).
Наконец, недвусмысленная теоретическая формулировка принципов сатиры на лицо содержится в одной из последних корреспонденции Правдулюбова в 24-м листе «Трутня»:
Критика на лицо больше подействует, нежели как бы она писана на общий порок. ‹…› Я утверждаю, что критика, писанная на лицо, но так. чтобы не всем была открыта, больше может исправить порочного. ‹…› Критика на лицо без имени, удаленная, поелику возможно и потребно, производит в порочном раскаяние; он тогда увидит свой порок и, думая, что о том все уже известны, непременно будет терзаем стыдом и начнет исправляться» (137-138).
Нельзя не заметить, что эта декларация принципов сатиры является по природе своей эстетической: в том, чтобы сделать очевидным объект сатиры, не называя его прямо, как раз и заключается литературное мастерство сатирика. Таким образом, новиковская концепция сатиры на лицо, в конечном счете, оказывается концепцией художественного творчества, а концепция сатиры на порок Екатерины II, при всей своей эстетической видимости, все-таки является идеологией и политикой по существу. Поэтому одинаково личный характер сатирических выпадов в журналах «Всякая всячина» и «Трутень» существенно различается формами своего выражения. Если сатира «Всякой всячины» имеет характер прямого личного оскорбления, то Новиков придает своим сатирическим пассажам статус художественного приема: одним из излюбленных способов неявной сатиры на лицо становится пародийная цитация и перелицовка текстов «Всякой всячины», придающая пародиям «Трутня» смысл насмешки и над литературной личностью, и над отраженным в тексте реальным лицом императрицы:
«Всякая всячина»
Некогда читал некто следующую повесть. У моих сограждан, говорит сочинитель, нет ни одной такой склонности, коя бы более притягала мое удивление, как неутолимая их жажда и жадность ко новизнам. Обыкновенно задача к тому дается одним словом или действием ‹…›.
Если бы сие любопытство было хорошо управляемо, оно бы могло быть очень полезно для тех, кои теперь оным обеспокоены. ‹…›
Читав сие, понял он причину, для чего в великом множестве наши листы охотно покупают. Хотите ли оную знать? Боюся сказать, прогневаетесь. Одно любопытство и новизна вас к сему поощряет. ‹…›
Ему пришло на ум еще новое. Со временем составлять он хочет ведомости, в которых все новизны напишет всего города, и надеется получить от того великий барыш.
«Трутень»
Некогда читал некто следующую повесть; у некоторых моих сограждан, говорит сочинитель, нет ни одной такой склонности, коя бы более притягала мое удивление, как неограниченное их самолюбие. Обыкновенный к тому повод бывает невежество и ласкательство. ‹…›
Если бы сие самолюбие было ограничено и хорошо управляемо, оно могло бы быть очень полезно для тех, кои теперь оным обеспокоены. ‹…›
Читав сие, понял он причину, для чего сперьва тысячами некоторых листы охотно покупали. Боюся сказать, прогневаются; одно желание посмеяться самолюбию Авторскому к сему поощряет. ‹…›.
Ему пришло на ум еще новенькое, со временем составлять он хочет книгу, всякий вздор, в которой все странные приключения напишет всего города, и надеется получить от того великий барыш.