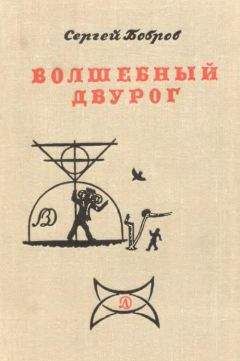Вера Проскурина - Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II
Дворянский же мир должен, согласно концепции оды, сполна воспользоваться дарованным ему счастьем, ниспосланным как политическая директива. А потому мир русского дворянства описан в «Фелице» как беспрерывный праздник, чреда карнавальных наслаждений. Существенно было и то, что «Фелица» воссоздавала атмосферу не только столичного, но и придворного быта, откровенно ориентированных на свободу времяпрепровождения, страстные «неги» и гастрономическое изобилие. Показательны фразеология и стилистика описания: Державин воспел не столько Фелицу, сколько триумф, блеск и изобилие — «роскошь» жизни. Знаменитый гастрономический фрагмент с его торжественными анафорами призван был символизировать наступившую эпоху «праздника» (ключевое слово фрагмента), закончившуюся державинским же описанием знаменитого праздника 1791 года, данного Потемкиным. В оде Фелице Державин идеологически и политически корректно воспел эпоху как волшебную феерию, как пир наслаждений:
Или в пиру я пребогатом,
Где праздник для меня дают,
Где тысячи различных блюд, —
Там славный окорок вестфальской,
Там звенья рыбы астраханской.
Там плов и пироги стоят, —
Шампанским вафли запиваю
И все на свете забываю
Средь вин, сластей и аромат{519}.
Между тем перечень блюд у Державина приобретал не только эстетический (роскошь бытия русского патриция{520}), но и политический характер. «Тысячи различных блюд» со всего света символизировали успехи и во внутренней экономике, и в торговых отношениях с другими странами. Не случайно портрет Екатерины кисти Левицкого был декорирован изображением бога торговли Меркурия. Эстетика делалась компонентом политики, символизируя изобилие, стабильность и процветание империи.
Державинский гастрономический рай с гиперболизированным изобилием дополняется раем эротических наслаждений:
Иль среди рощицы прекрасной
В беседке, где фонтан шумит.
При звоне арфы сладкогласной.
Где ветерок едва дышит.
Где все мне роскошь представляет,
К утехам мысли уловлиет.
Томит и оживляет кровь:
На бархатном диване лежа.
Младой девицы чувства нежа.
Вливаю в сердце ей любовь{521}.
Шутливые намеки на увеселения екатерининского окружения переводили быт в литературу и политику: в негах, роскоши и изобилии вырисовывались декорации нового курса.
Однако для самого Державина описание «роскоши», «прохлад» и «нет» русских патрициев, идентифицированных с самим собой и с русским дворянством, было частью общей картины мира. Полнота бытия и быта (знаменитое внимание поэта к материальному окружению) манифестировала полноту и разнообразие форм «существ» и «веществ» вселенной. В постлейбницианском взгляде на мир человек и его микромир (в том числе «алеатико с шампанским»{522}) так же необходимы и разумны, как планеты, звезды, Бог и Царь. В Великой Цепи Бытия всякому созданию отведено свое уникальное место на лестнице, каждый уровень которой закономерен, неизменен и ограничен только временной смертью отдельно взятой «песчинки»{523}.[88]
Популярнейшая теория, дискурс которой разделяли после Лейбница, Мильтон и Фенелон, Аддисон и Поп, Дидро и Гольдсмит, Локк и Бюффон, оказала огромное влияние на поэзию — в первую очередь на Эдварда Юнга. Державин, читавший как подверженного тем же идеям Фридриха И, так и Юнговы «Ночные мысли» (три перевода на русский существовали уже к началу 1780-х годов), был вовлечен в орбиту того же метафизического дискурса{524}. Его размышления о месте человека в этой цепи, переданные в оде «Бог» («Собеседник». 1784. Ч. 13), вписываются в европейский контекст споров о двух началах (спиритуальном и животном), определявших «срединное» положение человека между миром «высшим» и «низшим»:
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных,
И цепь существ связал всех мной{525}.
В иерархической лестнице — от Бога до последнего червя (такова была излюбленная диада для определения крайних полюсов вертикали Цепи у европейских философов и поэтов XVIII века{526}) — невозможна трансформация или переход с одного уровня на другой. Для каждого уровня «существ» имеется своя степень совершенства: грешный человек принужден жить миром своих удовольствий. Политическим аспектом теории стало представление о status quo — о пагубности социальных потрясений, гражданских войн и идей «равноправия».
Консерватизм сочетался здесь с так называемым философским оптимизмом (жестоко высмеянным Вольтером в повести «Кандид, или Оптимизм»). Лейбницианский пафос радости, наслаждения, счастья, предписанных человеку по природе его инстинктов, повлиял на формирование своего рода этики счастья и праведных путей к нему, в особенности проявившейся в германской пиетической культуре. Сказка о Хлоре и Фелице, написанная Екатериной, отразила основные парадигмы «прикладной» версии философии оптимизма с ее моралью: «Счастлив же тот, который чистосердечною твердостию преодолевает все трудности того пути»{527}. Державин не случайно просит у Фелицы «наставленья» о том, «как щастливым на свете быть». Царь, соотнесенный с более высокой, нежели обычный человек, ступенью Цепи, должен служить эталоном: комплименты Екатерине в таком контексте означали не лесть (чего зачастую не могли понять современники поэта), а метафизически необходимое почитание «структурно» более высокого существа.
Глава шестая.
РАДОСТЬ ДУШЕНЬКИ: ЗАВОЕВАНИЕ ГАЛАНТНОЙ КУЛЬТУРЫ
…В спокойствии, в мечтах текли его все лета;
Но он внимаем был Владычицей полсвета…
И.И. Дмитриев. Надгробие И.Ф. Богдановичу, автору «Душеньки»Первая книга «Душеньки» появилась — без указания имени автора — в 1778 году под названием «Душенькины похождения, сказка в стихах». Целиком поэма, под заголовком «Душинька, древняя повесть в вольных стихах», была издана в 1783 году. Начатая в контексте литературной борьбы 1770-х годов и оставшаяся незамеченной в то время, она пришлась по вкусу и читателям, и двору именно в 1783 году, когда Державин и Богданович активно вовлекаются в поэтическое оформление новой культурной политики самой императрицы, манифестированной издаваемым Дашковой журналом «Собеседник любителей российского слова». Созданный Богдановичем образ главной героини — Душеньки — оказался настолько актуальным для политико-культурной ситуации 1780-х годов, что имперская власть восприняла удачный поэтический символ, пристегнув его к собственной идеологической машине. На несколько лет текст оторвался от автора и зажил своей — политической — жизнью.
В 1790-е годы поэма вернулась в собственно литературный контекст[89], чтобы снова подвергнуться мифологизации. Созданная на смешении античного мифа, русского фольклора и европейской литературной традиции, «Душенька» к началу XIX века приобрела статус эталона легкой поэзии[90]. Поэма все более и более воспринималась как «простодушная» фантазия, как лишенная всякой связи с повседневностью сказка. «Простодушный» — постоянный эпитет, которым награждал автора поэмы H. М. Карамзин, оформивший в своей программной статье «О Богдановиче и его сочинениях» (1803) культурный миф о только что умершем поэте. Карамзин переписал реальную жизненную биографию поэта века Екатерины по канонам сентиментального жизнестроительства. Одинокий поэт, бескорыстно преданный своей Музе, оказывался вне времени и вне политической ситуации, в которую он, без сомнения, был вписан.
Между тем «Душенька» Богдановича, пережив несколько этапов творческой работы автора, менявшего или корректировавшего свою установку, оказалась вовлеченной в орбиту имперской мифологии и в свою очередь стимулировала саму эту мифологию.
Около дворцовых стен
Молодой провинциал Ипполит Федорович Богданович, родом из Малороссии, с первых шагов своей творческой жизни оказывается если не участником, то внимательным наблюдателем бурных кружковых философско-литературных дебатов и политических противостояний. Он близок кругу княгини Е.Р. Дашковой — ему с малолетства покровительствуют князь М.И. Дашков и просвещенный писатель-масон, тогдашний член правления университетской канцелярии М.М. Херасков. В доме последнего пятнадцатилетний Богданович, переведенный из юнкеров в студенты Московского университета, живет и берет первые уроки нравственного воспитания.