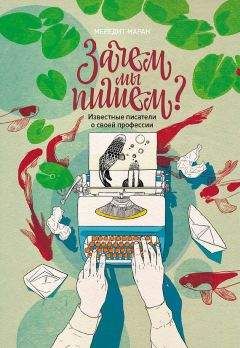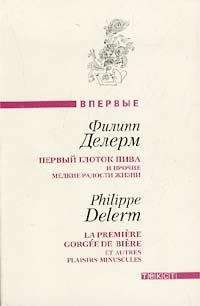Андрей Зорин - «Столетья на сотрут...»: Русские классики и их читатели
"Лермонтов, Демон, Печорин! Сколько чувства возбуждают эти слова в голубиных душах провинциальных барышень, сколько слез пролито по их поводу, сколько вздохов было обращено к луне мечтательными служителями Марса, львами губернских городов и помещичьих кружков!"
Зайцев опубликовался в "Русском слове" в 1863–м. Через 65 лет не менее рискованную операцию проделал и Б. Эйхенбаум: педантично, строчка за строчкой разобрал текст "Демона"; оказалось: "противоречий очень много". Вооружившись блистательным скальпелем науки, подтвердил то, что Белинскому было видно не вооруженным литературоведческим анализом глазом: "…все это детски…" Но тут сходились лишь концы; начала были прямо противоположны. Эйхенбаум судил, ориентируясь на высочайшие образцы эстетического совершенства, Зайцев же, воплотивший в своем развитии не только лучшие, но и худшие черты поколения, выступал от лица "реалистов", отрицавших "чувство огня над словом", без которого в незрелом, детском "Демоне" и в самом деле не разглядеть того, что когда‑то поразило Белинского: "страшно сильно и взмашисто".
И это, повторяю, естественно. Это в природе вещей. Это — предсказано самим Лермонтовым:
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово.
Образ чувств и мыслей непоэтической поры, в соответствии со своими идеалами исказившей облик Лермонтова, как это ни парадоксально, наложил властный свой отпечаток даже на восприятие Достоевского, который вроде бы всю жизнь только тем и занимался, что спорил со своим веком! Достоевский и Лермонтов — огромная, отдельная тема, но если выделить самое главное, окажется: Достоевский, увы, куда ближе к Зайцеву, чем можно было априори предположить:
"Сколько он написал нам превосходных стихов… Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал — был великодушен и смешон… Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг все начали корчить Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента… Наконец ему наскучило с нами, он нигде и ни с кем не мог ужиться; он проклял нас и осмеял… и улетел от нас… Мы долго следили за ним, но наконец он где‑то погиб — бесцельно, капризно и даже смешно".
А вот еще занятный зигзаг. Казалось бы, шестидесятников, материалистов, современников Базарова и его единомышленников, не должны были смущать гусарские поэмы Лермонтова. Раздражение, однако, столь велико, что даже на Зайцева накатывает "прюдство", и он накидывается на них с брезгливостью старой девы: годились бы, мол, для украшения "Физиологии брака" г. Дебе. Воистину: "Если тронешь страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь". Но какие же страсти затрагивал Лермонтов в своих гонителях выделки 60–х годов прошлого века? Похоже, что их, людей меры, он раздражал безмерностью. Бойцы и деятели, они строили баррикады, перековывали орала на мечи. Пожалуй, Лермонтов мог бы и пригодиться: "…как колокол на башне вечевой…" Но за "колоколом", увы, тянулось-увязывалось слишком многое, шестидесятникам явно не нужное!..
Прошло еще несколько десятилетий. Время опять переломилось, и "ничтожный" Печорин снова вырос: стал фигурой мощной и пугающей. Вместе с Лермонтовым увеличился. Увеличился и вернулся — покинул провинциальных телеграфистов и уездных барышень, в столицу вернулся, заняв собой наипервейших российских умников. Пушкина с его Онегиным тоже и не раз сбрасывали с "корабля современности", и суды над Онегиным устраивали, но, возвращаясь, Онегин оставался все‑таки Онегиным, таких вырастаний и укорачиваний, какие за 150 лет литературной жизни претерпел Григорий Печорин, Евгению Онегину пережить не пришлось. "Лермонтов — поэт сверхчеловечества", — торжественно объявил Дмитрий Мережковский, перетолковав эмпирическое лермонтовское богоборчество в соответствии со своей философической сверхзадачей (борьбой против официальной церковности и своего главного конкурента Вл. Соловьева) в богоборчество метафизическое, в род художественной теологии в новом модернистском вкусе. Короче: приспособил энергию Лермонтова, перевел ее на кручение жерновов своих собственных нелитературных мечтаний. Однако в процессе вдумывания и вчитывания открыл то, что вроде бы и не собирался открывать ("шел в комнату, попал в другую"), для близких — тактических и дальних— стратегических задач не нужное, не запланированное: "Опрощением Лермонтова предсказано опрощение Л. Толстого, солдатскою рубахою Лермонтова — мужичий полушубок Л. Толстого… Как из лермонтовского демонизма… вышел Достоевский, христианский бунт Ив. Карамазова, так из лермонтовской природы вышел Л. Толстой — языческое смирение дяди Ерошки".
Мережковский же возвестил—граду и миру — и еще одно, важно–неожиданное: "Валерик" — не только первые реалистические батальные сцены, но и первое в мировой литературе выражение "того особенного русского взгляда на войну, который так бесконечно углубил Л. Толстой. Из этого горчичного зерна выросло исполинское дерево "Войны и мира" ".
Толстой совсем не случайно оказался в столь непосредственной связи с Лермонтовым: упрямец и поперечник, он с ранней юности и до самой смерти, вразрез с общей точкой зрения, продолжал с особенным, личным пристрастием относиться к автору "Валерика", "Завещания" и "Героя нашего времени". Тут сыграл свою роль и опыт ранних лет (молодой Толстой попал на Кавказ спустя всего несколько лет после смерти Лермонтова и, открывая для себя сей чудный мир, смотрел на него глазами Лермонтова), и особое мнение В. Дружинина, собиравшего материалы к биографии Лермонтова. По цензурным соображениям труд этот в ту пору не увидел света, но Толстой мнение ближайшего литературного спутника не знать не мог. А в интерпретации Дружинина этот русский Демон и русский Мефистофель выглядел куда более похожим на капитана Тушина, чем на природного эгоиста, скрывшегося под маскарадной полумаской Григория Александровича Печорина:
"Для этого насмешливого и капризного офицера… мир искусства был святыней и цитаделью, куда не давалось доступа ничему недостойному. Гордо, стыдливо и благородно совершил он свой краткий путь среди деятелей русской культуры, которая, нечего скрывать, в то время представляла много искушений и много путей к дурному".
И еще одно открытие сделал все тот же Дм. Мережковский: "Недаром сравнивает его Достоевский с декабристом Мих. Луниным: при других обстоятельствах и Лермонтов мог кончить так же, как Лунин".
У Достоевского мысль иная. По Достоевскому, Лунин и Лермонтов, так же, как и Ставрогин, — это как бы знаки, вехи зла: у Ставрогина "в злобе выходил прогресс даже против Лермонтова". Мережковский суть опустил, а само сравнение: Лермонтов — Лунин отметил интуитивно точно. Теперь, когда мы знаем куда больше, чем в ту пору, и о Михаиле Лунине, и о Михаиле Лермонтове, оно приобрело еще больший вес, потому что к Лунину, пожалуй, единственному среди людей декабря, может быть отнесено сказанное П. Анненковым о Лермонтове: "Выдержка у Лермонтова была замечательная: он не сказал ни единого слова, которое не отражало бы черту его личности, сложившейся по стечению обстоятельств очень своеобразно; он шел прямо и не обнаруживал никакого намерения изменить свои горделивые, презрительные, а подчас и жестокие отношения к явлениям жизни на какое‑нибудь другое, более справедливое и гуманное представление их".
Вскоре после идеологического бума, а может быть, даже и подхлестнутое им, произошло и еще одно событие: художественная Россия разглядела в Лермонтове (поэте и прозаике) совершенно оригинального мастера; до сих пор он числился по этой части в учениках (у хвалителей), в эпигонах (у хулителей) великого Пушкина. Начиналась новая русская проза (Чехов, Бунин). Освобождалась от власти двух великанов — Достоевского и Толстого. Принялась шлифовать и отделывать каждую фразу с той же тщательностью, с какой это делалось в классической русской поэзии. Сократив пространства романов, доведя их объем до объема рассказа, через головы гигантов всматривалась она в Лермонтова, пытаясь разгадать секрет его непостижного уму, не разложимого на составные элементы совершенства.
Грустно–насмешливо посочувствовав размененному на медные пятаки "печоринству" (в Соленом, "Три сестры"), к лермонтовским идеям как таковым Чехов остался равнодушным, тут ему, в отличие от Толстого, нечего было "взять"; но вот Лермонтову — мастеру и стилисту — не уставал удивляться.
"Я бы, — мечтал Чехов, —так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, по предложениям, по частям предложения". Рассказ этот — "Тамань", доказывающая, по мнению Чехова, "тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой", образец русской новеллы, высшее достижение русского литературного языка.
Лев Толстой, кстати, тоже любил и выделял именно "Тамань" — читал ее вслух, и то, что его собственная проза основывалась на совершенно иных гармонических началах, — ничуть этому не мешало… И когда хвалили декадентов, сердился: пусть сначала докажут, что умеют писать не хуже Лермонтова, — "тогда я за ними признаю право писать по–ихнему".