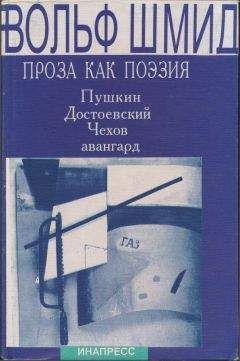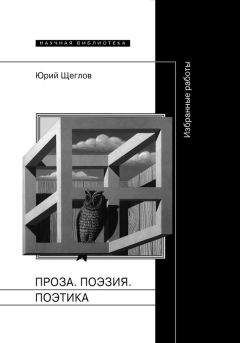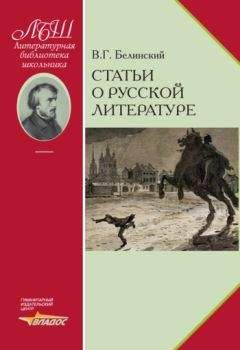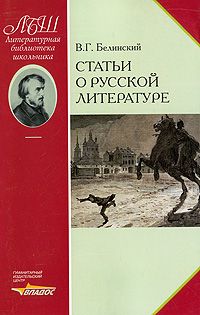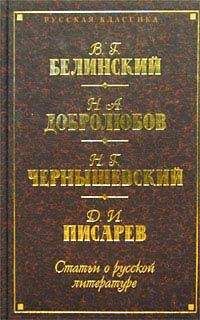Борис Соколов - Михаил Булгаков: загадки судьбы
Так и произошло.
Нужно отдать справедливость российской интеллигенции. Она со своей вечной способностью всюду отставать и оказываться в хвосте, со своей привычкой оценивать события гораздо позже того, как они произошли, со своим извечным страхом перед новым, осталась верна себе и тут.
Те представители ее, которые издавна стояли с почетной булавкой швейцара у театрального подъезда, увидев подбегающий вал, разделились на две группы.
Одна из них целиком покинула насиженные позиции и бежала. Другая храбро встретила страшные волны и решила организовать сопротивление.
Были пущены в ход гнилые подпорки, которые должны были поддержать театральные двери.
Саботирующие швейцары дружно налегли плечом с одной стороны, а волны накатывались с другой.
Исход борьбы был ясен…
В несколько мгновений подпорки лопнули с треском, и Революция без приглашения появилась в партере театра.
Партер резко изменился. Те „ценители“ в изящно скроенных костюмах, которые в доброе старое время наполняли первые ряды Больших и Малых (а также и малюсеньких) театров, куда-то бесследно исчезли.
Некоторые из них пропали без вести, как и полагается во время всякого боя. Другие волей революции вынуждены были вылететь из партера и переселиться в амфитеатр, некоторые, увы, во второй ярус. Наиболее жизнеспособные из них прикрыли свое саботажное существо серой шинелью и уцелели в задних рядах партера.
Их часто можно видеть там.
Узнать их можно безошибочно по тому выражению меланхолии с оттенком презрения, которое, раз появившись на их лицах, застыло на них навеки».
В данном случае Булгаков вынужден был писать с очень большой оглядкой на цензуру, которая была куда жестче, чем в деникинском Осваге. Поэтому-то и обратился к близкой себе театральной теме, но через нее постарался выразить свое отношение не только к театру, но и к революции вообще. Начинающий литератор очень точно показал тоталитарную сущность большевизма, проникающего во все поры жизни и перестраивающего ее по собственному плану. Когда Булгаков говорит о двух группах русской интеллигенции, он явно имеет в виду не только ту ее часть, что связана с театром. Здесь уже показаны те две группы русских беженцев в Киеве, которых мы видим в «Белой гвардии». Это, с одной стороны, те, кто хотя и ненавидит и боится большевиков, но предпочитает бежать или отойти в сторону, а с другой стороны — те, кого ненависть может двинуть в драку, те, кто составлял кадры Белого движения. И Булгаков в этом фельетоне показывает, пусть иносказательно, обреченность белых: мощнейший вал разбуженной большевиками стихии они пытаются сдержать с помощью гнилых подпорок, не имея сколько-нибудь реалистичной и отвечающей народным чаяниям политической программы, а вследствие этого — и поддержки народа. Ясно намекал он и на печальную судьбу противников большевиков, многие из которых «пропали без вести» в результате Гражданской войны и красного террора или оказались оттесненными во второй ярус жизни с клеймом «бывшие». И только самые ловкие, «наиболее жизнеспособные» смогли затесаться в ряды победителей, прикрывшись «рабоче-крестьянским» обличьем, что не излечило их, впрочем, от черной меланхолии и презрения к новым «хозяевам жизни».
Показательно и критическое отношение Булгакова к русской интеллигенции. Фактически он повторяет тезис о ее «хвостизме», не раз использовавшийся Лениным, Троцким и другими большевистскими лидерами. Троцкий, например, еще в 1911 году писал в статье «Об интеллигенции»: «Это были скверные годы, эти годы торжества победителей. Но, в сущности, самое страшное из того, что было (было и еще не прошло), не в самих победителях воплощалось. Много хуже были те, которые шли в хвосте победителей. Но безмерно хуже для души были вчерашние „друзья“ и полудрузья — морализирующие, или злорадствующие, или смакующие, или в кулак хихикающие».
Но есть в фельетоне и собственно театральная часть, из которой следует, что по крайней мере тогда, в 1920 году, будущий автор «Дней Турбиных» не был таким уж противником левого авангардного театра, за который выступал Мейерхольд. Булгаков писал:
«А волны тем временем все шли и шли вперед. И вот тут нашлась в театре одна черта, возле которой их движение как будто приостановилось.
Эта заколдованная, сияющая разноцветными огоньками черта была рампа, отделяющая зал от сцены.
Получилось интересное явление.
В то время как в партере бурно кипел Октябрь, на сцене мирно текли прежние дни. Единственное изменение заключалось в том, что властители ее попали в положение содержателя паноптикума, который с кислой улыбкой показывает новой массе зрителей все ценности своего музея.
Так было в эти три года великого общего потрясения и так есть и в настоящий момент.
А между тем становилось ясным, вопреки мнению всех тех, кто думал, что сцена уцелеет в своем прежнем виде в клокочущем море Революции, что заколдованная огненная черта рампы представляет собой барьер непрочный и временный. Становилось ясно, что Октябрь театра будет неполон, пока он властно не займет и сцену и не произведет на ней огромных пертурбаций.
И если заключался в чем-нибудь вопрос, то только когда именно театральный Октябрь на сцене начнется.
Те, кто лихорадочно работает над вопросом о перерождении театра, всеми силами призывает его, и есть среди них такие, которые полагают, что он уже наступил (явный намек на Мейерхольда. — Б. С.).
Однако это не так.
Нет никаких сомнений в том, что театральный Октябрь идет с неизбежным опозданием против Октября боевого.
Дело в том, что Революция, перешагнув рампу, должна принять созидательный характер, чтобы дать тот материал, который должен сменить старые ценности и вытеснить их со сцены.
На это нужно время.
Пусть это время передышки питает заблуждение косных стражей театрального искусства, полагающих, что их фетиши неприкосновенны. Очень скоро настанет момент, когда им придется расставаться со своими кумирами и увидеть на сцене новые образцы.
Может быть, это не будет так?
Всякому, кто задаст этот вопрос, надо ответить вопросом же: может ли пройти бесследно великий трехлетний шквал, который произвел коренную ломку в умах человеческих, да к тому же еще не только не закончил своего поступательного движения, но явно победоносно его продолжает?
Ответ может быть только один: следы его неизгладимы.
А раз это так, то можно с уверенностью сказать, что очень многие образцы прежнего театрального искусства, и подчас великолепные образцы, обречены уже на сдачу в музей. Ибо и сейчас, кто не сознается в этом, некоторые творения прежних корифеев уже вызывают невольную зевоту, которую приходится из приличия прикрывать рукой, а другие если и возбуждают интерес, то очень похожий на почтительный музейный интерес.
Но сцена не музей.
И поэтому надвигается на нее Октябрь театра, несущий с собой погром прежних традиций, разрушение старых рамок, новую идеологию, новые неожиданные образцы.
Это неизбежно.
В деталях мы еще не знаем его.
Мы можем только предполагать, что он принесет с собой уничтожение рампы, образцы истинно массового действа, невиданные грандиозные зрелища, в которых зал сольется в кипучем порыве со сценой (возможно, что зал в это время окажется на площади).
Нам придется увидеть, как для общего действа зрительная толпа хлынет через рампу на сцену, а навстречу ей пойдет актер, но не так, конечно, как раньше он ходил по мосткам, перекинутым через оркестр под звуки зажигающей „Прекрасной Елены“.
Мы не знаем точно, какие именно формы примут творения новых художников сцены. Но зная, что сцена чутко следит за масштабом событий, уверенно можно сказать, что и масштаб этих творений будет грандиозен.
Задача подвижников сцены теперь одна.
Сознать, что приход Октября неизбежен, и готовиться к его принятию. Почувствовать, что сцена, которую они охраняют, не может уцелеть со своими архивными ценностями как диссонанс в общем море событий, и что попытки оградить ее от вторжения нового кончатся весьма печально для стражи.
Революция обрушится на нее и уберет ее самое, сказав ей в назидание:
— Диссонансам вообще не место в моем движении, а значит, не место и театральным диссонансам в великом театре будущего, созданном мной и в унисон звучащем со мной».
Булгаков признает связь авангарда с революцией. То, что сцена сливается со зрителями, он понимает как метафорически (происшедшие в стране революционные перемены должны, пусть с опозданием, прийти на сцену в виде современных пьес), так и буквально, предвидя, что в авангардном театре пространство сцены соединится с пространством зрительного зала. Так и произошло в дальнейшем. Булгаков признает, что многие постановки давно уже устарели, академичность дореволюционных театров должна кануть в Лету. Но все-таки употребленное по отношению к «театральному Октябрю» веселенькое определение «погром» говорит, как нам представляется, об истинном отношении Михаила Афанасьевича к революционному авангарду. Оно было, по меньшей мере, весьма настороженным. Булгаков опасался, что классические постановки будут изгнаны из репертуара, а равноценной замены им найдено не будет. Сам он стремился осмыслить революционный опыт в чеховской традиции, что вскоре вполне удалось ему в «Днях Турбиных», которые надолго стали образцом пьесы о Гражданской войне и держались в репертуаре МХАТа, пусть и с вынужденным перерывом, почти пятнадцать лет. И как раз на этих спектаклях наблюдались удивительные сцены единения зрительного зала с актерами, при том, что рампу никто не ликвидировал. И еще. Когда Булгаков писал о «диссонансах революции», он предчувствовал наступление еще более жесткой цензуры, равно как и то, что его творчество как раз и будет диссонансом по отношению к революционной патетике.