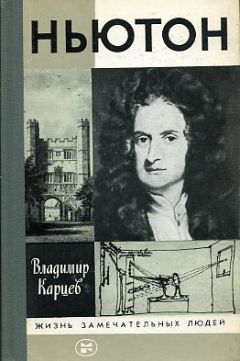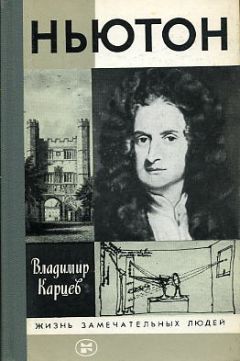Борис Соколов - Расшифрованный Достоевский. Тайны романов о Христе. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы.
В этих словах Шатова в несколько измененном виде повторена мысль Достоевского о своем символе веры, выраженная им в письме к НД. Фонвизиной от конца января — 20-х чисел февраля 1854 г.: «Я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной».
Кириллов в «Бесах» исповедует сходные взгляды: «Если Бог есть, то вся воля его, и без воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие».
Сочувствующий «бесам» писатель Кармазинов, прототипом которого послужил нелюбимый Достоевским И. С. Тургенев, произносит в разговоре с Верховенским-младшим монолог о «чести», вполне соответствующий взглядам Бакунина, Нечаева и их последователей: «Эта способность смотреть истине прямо в лицо принадлежит одному только русскому поколению. Нет, в Европе еще не так смелы: там царство каменное, там еще есть на чем опереться. Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено. Нет, в Европе еще этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем, во всю его историю. Открытым „правом на бесчестье“ его скорей всего увлечь можно. Я поколения старого, и, признаюсь, еще стою за честь, но ведь только по привычке. Мне лишь нравятся старые формы, положим по малодушию; нужно же как-ни-будь дожить век».
Здесь Достоевский обыграл фразу из первого «Издания Общества Народной расправы»: «Мы из народа, со шкурой, прохваченной зубами современного устройства, руководимые ненавистью ко всему ненародному, не имеющие понятия о нравственных обязанностях и чести по отношению к тому миру, который ненавидим и от которого ничего не ждем, кроме зла». Позднее, в мартовском выпуске «Дневника писателя за 1876 год», говоря о «либеральных отцах» современной ему молодежи, Достоевский отмечал, что «в большинстве это все-таки была лишь грубая масса мелких безбожников и крупных бесстыдников, в сущности тех же хапуг и „мелких тиранов“, но фанфаронов либерализма, в котором они ухитрились разглядеть лишь право на бесчестье».
Стоит отметить, что в отдельном издании Достоевский смягчил кое-какие выпады в адрес Кармазинова — Тургенева. Например, убрал относящуюся к «великому писателю» совершенно убийственную фразу: «Я готов сейчас же продать всю Россию за два пятака, только хвалите меня».
Но, тем не менее, вплоть до конца жизни Федор Михайлович остался об Иване Сергеевиче весьма дурного мнения и не скрывал своего иронического к нему отношения. Вот как Е. Н. Опочинин передает свой разговор с Достоевским о Тургеневе, состоявшийся 19 декабря 1879 года: «Федор Михайлович Достоевский. Наружность незначительная: немного сутуловат; волосы и борода рыжеваты, лицо худое, с выдавшимися скулами; на правой щеке бородавка. Глаза угрюмые, временами мелькает в них подозрительность и недоверчивость, но большею частью видна какая-то дума и будто печаль. В разговоре временами взор загорается, а иногда и грозит (разговор о Тургеневе). „Он всю мою жизнь дарил меня своей презрительной снисходительностью, а за спиной сплетничал, злословил и клеветал“».
Потом дальше: «Он (то есть Иван Сергеевич), по самой своей натуре, сплетник и клеветник Знаете, в помещичьем кругу такие бывали: воспитывались они среди наушничества угодливых лакеев и приживальщиков, и обо всех, кто на них не был похож, судили злобно и враждебно. Довольно было, чтоб человек был лучше того, кто о нем судил, чтобы на него упала целая стена клеветы. А этот, кроме всех унаследованных качеств этого круга людей, еще и безмерно мелкодушен: ему надо всем нравиться, надо, чтобы все его хвалили и превозносили — и у нас, и за границей. Для этого и к Флоберу пролез, и ко многим другим. Ну, а для публики такая дружба хороший козырь. „Я-де европейский писатель, не то что другие мои соотечественники, — дружен, мол, с самим Флобером“. А посмотрел бы я и послушал, как он с газетчиками и журналистами заграничными разговаривает! Чего, чего на себя не напускает: и простодушия-то и незлобивости, — „никого, мол, я судить не могу и не умею; я, мол, сама искренность и неисчерпаемая доброта“. Какая, подумаешь, купель добродетели! А в душе-то на самом деле гнездится мелкая злоба и страшное высокомерие.
У таких людей нет суда вровень с собой для человека. Они не могут судить по правде, а лишь снисходят, обидно и оскорбительно снисходят. Они никого не любят, а если говорят кому, что любят, то врут и притворяются. На самом деле они только стараются показать, что любят: нате, мол, смотрите, я снизошел до любви. И делают это они лишь напоказ, ибо знают, что любовь красива и вызывает сочувствие, а оно им необходимо. По-настоящему, у них и родины, отечества нет; они космополиты, граждане вселенной. Может быть, это и высоко, и хорошо, — только не надо бы им сюсюкать над родиной напоказ. А послушать, как распоется такой вселенский гражданин, так какое хочешь черствое сердце тронет: тут тебе и ширь, и даль синяя, и леса, и степи… И все это со вздохом, со слезой. Или мужиков станет описывать: милее какого-нибудь Калиныча для него и на свете нет. А маменька его (Ивана Сергеевича), чай, не мало раз порола этих Калинычей, и Хорей, и Ермолаев и драла с них по семи шкур. Да и сам-то Тургенев не отказался бы от этого удовольствия, — только положение его не таково, нельзя себе этого было позволить, когда и можно было „гулять на всей барской воле“.
А талантом его Бог не обидел: может и тронуть, и увлечь. Но все-таки даже и в самых молодых и как будто бы искренних его вещах чувствуется как бы преднамеренность, какая-то холодная снисходительность. Чувствуется, что он совсем не любит того, кого столь трогательным образом описывает. Словно игра одна актерская: „смотрите, мол, как я умею чувствовать“. Даже и слезами иногда разольется».
По словам Опочинина, «Федор Михайлович говорил, сильно нервничая, то двигая как бы непроизвольно руками, то передвигая бумаги на столе. Только под конец, несмотря на произносимые едкие слова, он говорил довольно плавно и спокойно, но с губ его не сходила ироническая усмешка».
В «Бесах» спародирована и иерархия, господствующая в «Народной расправе», последовательно проводимое Нечаевым и Бакуниным деление общества на различные категории, подлежащие либо уничтожению, либо использованию в качестве материала для достижения главной цели, а также маниакальная страсть революционеров к секретности и конспирации. Вот характерный диалог «главных бесов» Ставрогина и Петра Верховенского: «Петр Степанович, конечно, знал, что рискует, пускаясь в такие выверты, но уж когда он сам бывал возбужден, то лучше желал рисковать хоть на все, чем оставлять себя в неизвестности. Николай Всеволодович только рассмеялся.
— А вы все еще рассчитываете мне помогать? — спросил он.
— Если кликнете. Но знаете, что есть один самый лучший путь?
— Знаю ваш путь.
— Ну нет, это покамест секрет. Только помните, что секрет денег стоит.
— Знаю сколько и стоит, — проворчал про себя Ставрогин, но удержался и замолчал.
— Сколько? что вы сказали? — встрепенулся Петр Степанович.
— Я сказал: ну вас к черту и с секретом! Скажите мне лучше, кто у вас там? Я знаю, что мы на именины идем, но кто там именно?
— О, в высшей степени всякая всячина! Даже Кириллов будет.
— Все члены кружков?
— Черт возьми, как вы торопитесь! Тут и одного кружка еще не состоялось.
— Как же вы разбросали столько прокламаций?
— Там, куда мы идем, членов кружка всего четверо. Остальные, в ожидании, шпионят друг за другом взапуски и мне переносят. Народ благонадежный. Все это материал, который надо организовать, да и убираться. Впрочем, вы сами устав писали, вам нечего объяснять.
— Что ж, трудно, что ли, идет? Заколодило?
— Идет? Как не надо легче. Я вас посмешу: первое что ужасно действует — это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи — очень нравится и отлично принялось. Затем следующая сила, разумеется, сентиментальность. Знаете, социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности. Но тут беда, вот эти кусающиеся подпоручики; нет-нет да и нарвешься. Затем следуют чистые мошенники; ну эти, пожалуй, хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется. Ну и, наконец, самая главная сила — цемент, все связующий, — это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот „миленький“ трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают.