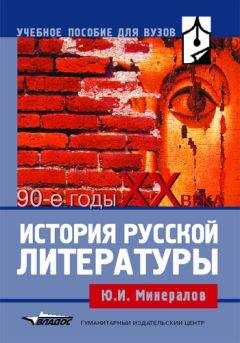Коллектив авторов - История русского романа. Том 1
Но если в южных поэмах Пушкина и в декабристской поэзии развертывание этих мотивов было ограничено отвлеченным, романтическим характером изображения жизни, то в «Евгении Онегине» они получили всестороннюю реалистическую трактовку: декларативные сентенции о смутной и неясной разочарованности героя и его вражде к свету уступили здесь место художественному анализу причин, обусловивших типические черты дворянской молодежи этой эпохи.
Итак, генетическая связь проблематики «Евгения Онегина» с декабристской эпохой и с мировоззрением ее деятелей очевидна. Возникает, однако, вопрос: чем же объясняются отрицательные отзывы декабристов о «Евгении Онегине»? Попробуем разобраться в существе этих отзывов.
Основная причина неожиданной, казалось бы, реакции декабристов на первую главу романа заключается в том, что выраженная здесь новая художественная система Пушкина не была понята сторонниками романтизма и воспринималась как отказ от «высокого» идеала в искусстве во имя изображения только отрицательного и безобразного. В предисловии к изданию первой главы Пушкин предвидел возражение критиков, которые «станут осуждать… антипоэтический характер главного лица» (638). Действительно, в этом была суть откликов H. Н. Раевского, А. А. Бестужева и других на первую главу романа, вышедшую в свет в 1825 году. По словам Пушкина, Раевский «бранит» роман, он ожидал «романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчухал» (письмо к брату от начала 1824 года; XIII, 87). С критериями романтизма подошла к оценке «Евгения Онегина» и декабристская критика. А. А. Бестужев одобрительно отозвался только о тех местах первой главы, «где говорит чувство», «где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества». И здесь же Бестужев отмечал, что лучшее произведение Пушкина — поэма «Цы- ганы».[172] Бестужев полагал, что изображение светской жизни, противоречившей понятиям «высокого», не является достойным предметом для поэта. Полемизируя с Пушкиным, отстаивавшим право поэта на изображение светской жизни, Бестужев писал ему 9 марта 1825 года: «… для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку?» (XIII, 148). Этим Бестужев хотел выразить мысль о том, что Онегин слишком ничтожный предмет для романа (обложка первой главы была украшена вместо виньетки изображением бабочки, которое Бестужев понял как аллегорический намек на сущность героя). Рылеев, хотя и признавал, что первая глава «Онегина» в целом — «прекрасна», всё же резюмировал так свою оценку: «… Онегин, сужу по первой песни, ниже и Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника» (письмо к Пушкину от 12 февраля 1825 года; XIII, 141).
Эти отзывы основаны на впечатлении от первой главы, содержание которой ограничено чисто негативной задачей — характеристикой условий светской жизни, создававших Онегина как человека, преданного «безделью» и томившегося «душевной пустотой». Чего же ожидали от романа критики — декабристы? Об этом можно догадаться на основании упомянутого отзыва Бестужева, одобрившего те места первой главы, «где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества». В лице Онегина Бестужев ожидал найти нечто подобное Алеко, т. е. героя, которого можно было бы поставить в «контраст с светом». Иначе говоря, Бестужев, верный романтической догме, признавал задачей искусства создание исключительных характеров, а не таких, как Онегин, которых он, по его словам, «тысячи встречал» (XIII, 149).
Расхождения между Пушкиным и Бестужевым были расхождениями реалиста и романтика. Но известная парадоксальность этого спора заключалась в том, что критическое изображение Пушкиным причин, обусловивших характер Онегина как типа, безусловно соответствовало той критике равнодушия, бездейственности, пустоты светского молодого человека, которая шла из лагеря декабристов: вспомним приведенные выше тирады на эту же тему из «Законоположения Союза благоденствия», из дневников
Н. И. Тургенева, из стихотворения Рылеева «Гражданин». Любопытно, что в этой же самой статье Бестужева, где содержится отзыв о первой главе «Евгения Онегина», дана такая характеристика воспитания и самого типа светского молодого человека, которая поразительно напоминает содержание первой главы пушкинского романа. Вот что писал Бестужев: «Мы учимся припеваючи, и оттого навсегда теряем способность и охоту к дельным, к долгим занятиям. При самых счастливых дарованиях мы едва имеем время на лету схватить отдельные мысли; но связывать, располагать, обдумывать расположенное не было у нас ни в случае, пи в привычке. У нас юноша с учебного гулянья спешит на бал; а едва придет истинный возраст ума и учения, он уже в службе, уж он деловой — и вот все его умственные и жизненные силы убиты в цвету ранним напряжением, и он целый век остается гордым учеником, оттого что учеником в свое время не был. Сколько людей, которые бы могли прославить делом или словом свое отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролетная тень облака». Причины этой «душевной дремоты» и пустоты Бестужев видит в общественных условиях: «Да и что в прозаическом нашем быту, на безлюдьи сильных характеров может разбудить душу? что заставит себя почувствовать? Наша жизнь — бестенная китайская живопись; наш свет — гроб повапленный!». Далее Бестужев продолжал: «Но кроме пороков воспитания, кроме затейливого однообразия жизни нашей, кроме многосторошшости и безличия самого учения (quand même), которое во всё мешается, всё смешивает и ничего не извлекает, — нас одолела страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад вздыхали по — стерновски, потом любезничали по — французски, теперь залетели в тридевятую даль по — немецки. Когда же попадем мы в свою колею?».[173]
Характерно, что Пушкин весьма одобрительно отозвался об этих местах статьи Бестужева. Он писал ему: «Всё, что ты говоришь о нашем воспитании, о чужестранных и междуусобных… подражателях — прекрасно, выражено сильно и с красноречием сердечным» (конец мая — начало июня 1825 года; XIII, 179). Однако, несмотря на общность идеологической позиции, выразившуюся в столь близких оценках условий общественной жизни, Бестужев так и не мог понять перелома, который совершился в пушкинском творчестве.
3В «Евгении Онегине» впервые в русской литературе проблема современного героя была решена средствами реалистического метода. В этом отношении пушкинский роман своими принципами явился отрицанием основ художественной системы, выраженной в романтической литературе 20–х годов.
Ограниченность романтического метода сказалась и в южных поэмах Пушкина. Образы Пленника, Алеко отличаются отвлеченностью, загадочностью. Исключительность характеров этих героев поддерживается необычностью их поступков, которым даны зыбкие, окутанные своеобразной таинственностью мотивировки, но при всем этом между южными поэмами и «Евгением Онегиным» существует известная преемственность: не понимая ее, нельзя понять ни истории возникновения пушкинского романа, ни его новаторства.
Хотя каждое из таких поворотных в эволюции Пушкина произведений, как «Кавказский пленник», «Цыганы», «Евгений Онегин», отличается глубоким своеобразием, они представляют собою звенья единой цепи.[174]
Думы, стремления, драматизм судьбы современного человека; причины, мешающие свободному развитию человеческой личности; общественные условия, уродующие жизнь людей, воодушевленных высокими мечтами, поэтическими идеалами; конфликты, возникающие между «героем» и «средой», — всё это остро интересовало Пушкина на всем его творческом пути. Представления Пушкина об идеале человеческой личности отражали тенденции, которые складывались в самой действительности и вместе с тем находились в тесной зависимости от развития его художественного метода, от изменений в художественной системе, эстетических принципах.
Уже в «Кавказском пленнике» Пушкин, по его собственному признанию, думал воспроизвести некоторые типические черты современного героя: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отли- ительными чертами молодежи XIX века» (письмо к В. П. Горчакову, 822; XIII, 52). Этому замыслу не противоречила трактовка образа Пленника как положительного, вольнолюбивого: разочарованность героя была результатом расхождений между идеалом и действительностью, стремлением к нему, невозможностью его осуществить. Несмотря на расплывчатость и романтическую зыбкость образа, было очевидно, что биография героя типична для вольнолюбивой молодежи того времени. Об этой биографии повествуется лаконичными, но характерными для высокой романтической поэзии словами:
… пламенную младость
Он гордо начал…
(IV, 95)
Эти же эмоции сопровождают рассказ о прошлом героя, который «гоним судьбою», «обнял грозное страданье». Его «увядшее сердце» (увядшее в неволе!) таило, однако, высокие чувства и упования: