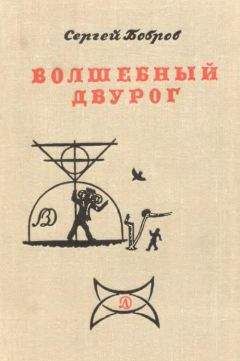Вера Проскурина - Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II
В стихотворной надписи А.П. Сумарокова к портрету Екатерины (работа Г. Ротари, гравер — Евграф Чемесов), сделанной по заказу в 1762 году, еще яснее декларировались как идея спасения России от иноземного порабощения, так и религиозная миссия новой царицы:
Сия избавила от уз Российску славу,
И православие в империи спасла.
Дала премудрости Российскую державу,
И истинну на трон Российский вознесла{27}.
Позднее в течение многих лет своего правления Екатерина демонстрировала озабоченность гак называемым «греческим проектом» (в том числе и идеей «спасения» христианских народов из-под власти турок) — центральной мифологемы русской имперской политики того времени{28}.
Сложнее было с демонстрацией собственной легитимности, так как юридических прав на русский престол у нее не было. Еще в 1762 году главный диссидент первых лет царствования митрополит Ростовский Арсений Мацеевич, чье дело внимательно изучалось самой Екатериной, в высшей степени точно очертил все неувязки со статусом новой царицы: «Государыня наша не природная и не тверда в законе нашем, и не надлежало ей престола принимать»{29}.[7] Арсений также «ложно толковал житие Кирилла, что в России будут царствовать двое юношей, чем старался поколебать в других верность к самодержице…»{30}. Арсений считал, что престолом владеть «следовало Ивану Антоновичу, или лучше бы было, кабы ее величество за него вступила в супружество»{31}.
Последнее предложение — стать супругой умственно отсталого узника елизаветинского царствования — было особенно выразительно. Если Екатерина могла успешно преодолеть барьер национальности и конфессиональности, то преодолеть барьер сексуальной принадлежности, то есть стать законным русским императором — подобием Петра I, было абсолютно необходимо.
В имперской мифологии принято было различать монарха как частного человека и как священную персону, представляющую собой инкарнацию «тела» государства. Уходящее корнями в Средневековье представление о двуприродном «теле» короля, сочетающем Божественное начало и земную ипостась, было понято Эрнстом Канторовичем как транспозиция на священную особу короля христианского представления о двуединой «природе» Христа{32}. Смертному телу короля противостояло бессмертие священной королевской сути, которая «никогда не умирает».
Старое средневековое представление продолжало быть актуальным в европейской политической теории Нового времени{33}. Особым образом оно преломилось на русской почве XVIII века: тело императора оказывалось напрямую связано с русским государством, с его двуединой сакрально-секулярной природой. Так, М.В. Ломоносов в «Оде надень тезоименитства его императорского высочества великого князя Петра Федоровича 1743 года» устами Марса и Минервы прокламировал эту непреложную двуединую сущность императора Петра I:
«Он Бог, он Бог твой был, Россия,
Он члены взял в тебе плотския,
Сошед к тебе от горьних мест…»{34}
Петр I, согласно Ломоносову, — это Бог, обретший свои «плотские» «члены» на российской земле. Средневековая христианская теология «земной» ипостаси заменяется политической доктриной «тела государства». Петр — это русский Бог, телесная инкарнация «идеи» Русского государства.
В то же время традиционным для русского сознания было отнесение мира мужского к миру сакральному, а мира женского — к миру профанного, греховного. Женское начало всегда ассоциировалось с «земным», «материальным», а сам женский мир воспринимался как второстепенный и зависимый от мужского. Священная природа царя однозначно связывалась с мужским началом. Феофан Прокопович в «Слове на погребение <…> Петра Великаго» (1725) декларировал, обращаясь к его вдове, императрице Екатерине I: «Мир весь свидетель есть, что женская плоть не мешает тебе быти подобной Петру Великому»{35}. Искусная риторика, имевшая целью легитимизировать право супруги Петра на власть, оправдывала наличие «женской плоти» как не самой лучшей, но все же «не мешающей» инкарнации священного «тела» власти.
Показательным и важным было то, что сакральное не умерло, но перешло в другую, хотя и женскую, плоть. Своеобразным изобретением XVIII века была подмена Божественного субстрата приравненным к Богу Петром I. Первый русский император наделяется атрибутами русского Бога (в оппозиционной власти литературе Петр, напротив, приравнивается к Антихристу), и уже его бессмертный дух переходит к новой правительнице. Так — символически — утверждалась идея перманентности власти и харизмы в переменчивом мире дворцовых переворотов «осьмнадцатого столетия».
Внешняя ориентация политической стратегии Екатерины на Петра I должна была подтвердить ее идейную наследственность: не по родству, а по духу и идеологической мощи преобразований она является законной наследницей. Василий Петров в послании «Галактиону Ивановичу Силову» (1772) кратко, но исключительно выразительно резюмировал «родственно-наследственные» права Екатерины:
В Екатерининой там плоти дух Петров{36}.
«Дух Петров» здесь замещает элемент Божественного. Через этот «дух Петров» Екатерина (не имея никаких иных оснований) приобщается к сакральной императорской сущности. Такова была блистательно осуществленная усердной читательницей Монтескье и Дидро «просветительская» стратегема имперского правления в феодально-аристократической политической структуре[8].
Показательна в этом плане система политических знаков, расставленная в двух поздних одах М.В. Ломоносова — «Оде императрице Екатерине Алексеевне на ее восшествие на престол июня 28 дня 1762 года» и «Оде императрице Екатерине Алексеевне в новый 1764 год». В первой оде (написанной буквально в первые дни переворота) Ломоносов, еще не сориентировавшийся в новых веяниях политики, пытается представить Екатерину всего лишь возродившейся Елизаветой:
Внемлите все пределы света
И ведайте, что может Бог!
Воскресла нам Елисавета:
Ликует церковь и чертог{37}.
Метафорика явно не понравилась Екатерине, пытавшейся сломать стереотип безвольной («кроткая» — основной эпитет Ломоносова применительно к Елизавете) государыни на троне{38}. Екатерина хотела не царствовать, но полновластно управлять — не как «кроткая» и женственная Елизавета, а как сильный император. Ее моделью на тот момент делается Петр I, а не капризная женщина-императрица, передающая реальную политику в руки приближенного министра. Ломоносов, на личном опыте прочувствовавший стремительность государственной деятельности новой царицы (в мае 1763 года Екатерина подписала приказ о его отставке, но, правда, через несколько дней забрала его обратно), во второй оде решительно отказался от сравнений ее с Елизаветой. Более того, Екатерина получает одическую легитимацию в качестве… «внуки» Петра I. Ломоносов пишет:
Среди торжественного звуку
О ревности моей уверь,
Что ныне, чтя, Петрову внуку
Пою, как пел Петрову дщерь{39}.[9]
Практически исчезает навязчивая преамбула первой оды, толкующей о достижениях предшествующих «женских» правлений (Екатерины I, Елизаветы) как фундаменте для деятельности нынешней правительницы. Кратко, но политически изящно Ломоносов санкционирует Божественной волей восшествие на трон новой царицы:
О скиптр, венец, о трон, чертог,
Сужденны вновь Екатерине,
Красуйтесь о второй богине!
Той Петр вручил, сей вверил Бог!{40}
Показательно и то, что, сильно редуцировав весь «женский» ряд для сравнений, Ломоносов ввел «мужской», к тому же беспроигрышно освященный библейским колоритом:
Премудрый глас сей Соломонов,
Монархиня, сей глас есть твой.
Пребудет твердь твоих законов,
Ограда истины святой{41}.
Констатация «тверди» не женского, но мужского правления соответствовала политической стратегии новой императрицы, произведшей неувядающего одописца в статские советники.
Великая княжна Екатерина Алексеевна: портрет юного принца
XVIII век был по преимуществу женским царством в России. Однако, чтобы овладеть престолом, претендентши так или иначе должны были разыгрывать мужское поведение{42}. Стратегия этого политического маскарада на протяжении всего XVIII века составляла основной вариант дворцового переворота в России.