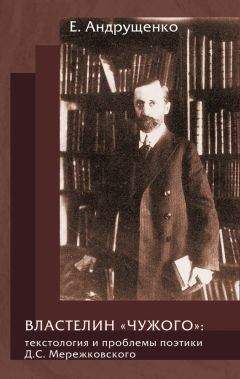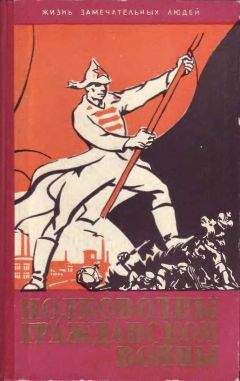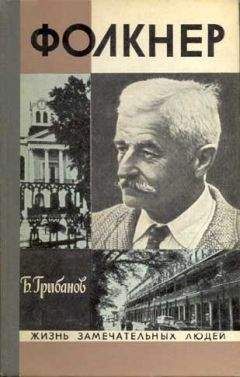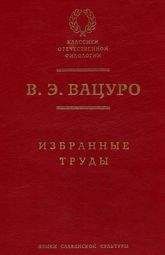Елена Андрущенко - Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского
Федор как «несуществующая душа» входит, таким образом, в типологию мифологизированных имен, созданную Д. Мережковским. Теперь продемонстрируем, как к ней присоединяется имя Паскаля. В начале пьесы «Будет радость» Гриша держит в руках книгу Паскаля «Мысли»:
«Иван Сергеевич. А, Гриша, здравствуй. Мы, ведь, с тобой сегодня не видались. Опять у старца весь день?.. А это что у тебя? (Берет у Гриши книгу). Pensées de Pascal. Старцу, что ли, носил?» (334).
Затем вводится словосочетание «несуществующие души», которое, как мы уже говорили, можно пояснить легендой, осмысляемой в статье о М. Лермонтове. Этот же ценностный контекст переносится в книгу «Паскаль»:
«Существует древняя, вероятно, гностического происхождения легенда, о которой упоминает Данте в „Божественной Комедии“. Ангелам, сделавшим окончательный выбор между двумя станами в довременной войне Бога и диавола, не надо рождаться, потому что время не может изменить их вечного решения. Но колеблющихся, нерешительных между светом и тьмой, добром и злом, благость Божия посылает в мир, чтобы могли они сделать выбор во времени, не сделанный в вечности. Та же благость скрывает от них забвением прошлую вечность для того, чтобы раздвоение, колебание воли их, в вечности бывшей, не предрешало того уклона воли во времени, от которого зависит спасение или погибель их в вечности будущей. Вот почему люди так естественно думают о том, что будет с ними после смерти, и не умеют, не могут, не хотят думать о том, что было до рождения. Людям дано забыть откуда, — чтобы яснее понять куда они идут. Таков общий закон религиозного опыта. Исключения из него редки, редки те души, для которых поднялся угол завесы, скрывающей от людей тайну прошлой вечности. Кажется, одна из таких душ — Паскаль»[181].
Слово «плевелы» в процитированной выше реплике побуждает искать иной контекст, прежде всего, библейский (Мф. 13: 36–39). Однако реминисценция в незавершенной пьесе Д. Мережковского и введение ее в «Будет радость» свидетельствуют, видимо, о ее особой смысловой ценности:
«Федор. Как же быть, Катя? Кальвин, что ли, учил, что есть люди погибшие: что бы ни делали, все равно, не спасутся, потому что осуждены от века, прокляты. Вот и старец намедни толковал притчу о плевелах: посеял человек пшеницу на поле своем, а ночью пришел враг и всеял плевелы. Враг — диавол, пшеница — сыны Божьи, а плевелы — сыны диавола — несуществующие души» (340).
Найти пояснение этой связи между кальвинизмом и библейской притчей в произведениях Д. Мережковского, созданных им до пьесы, не удалось. Однако эта контаминация оказывается готовой конструкцией, которая в том же ценностном контексте вводится в книгу «Кальвин» и, в свою очередь, способна пояснить смысл высказываний персонажа.
«…„не все люди созданы с одинаковой целью, но одни — для вечной жизни, а другие — для осуждения вечного“. Это значит: Богом разделяется все человечество на две неравные части — одну, неизмеримо меньшую — не по заслугам наверное спасающихся, а другую, неизмеримо большую — наверное без вины погибающих; на получивших даром Благодать и на лишающихся ее также даром»[182].
В этой книге Д. Мережковский, как и в реплике Федора, устанавливает связь между библейской притчей и кальвинизмом:
«Что отличает „пшеницу“ от „плевелов“? То же, что истинное бытие отличает от мнимого, Бога — от дьявола. „Доброе семя“ — настоящие люди — те, у кого есть высокое лицо — личность, образ и подобие Божие, а „плевелы“ — те, у кого вместо лица только пустая личина и, вместо действительного бытия, мнимое, — люди не-сущие. Первые могут грешить, падать, погибать, но погибнуть не могут, потому что они есть, а вторые ни спастись, ни погибнуть не могут, потому что их нет . Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего — „вечности земной“, той aiwvoç (Матфей, 13: 40). „Плевелы“, „сыны дьявола“, — мнимые, не-сущие люди — сгорят, как солома в огне; сгорание и будет для них „вечность мук“; а „пшеница“ — „сущие“ — „дети Божии“ — спасутся все. <…> Кем посеяны „плевелы“ — созданы те, кто осуждены на вечную смерть? Два ответа у Кальвина: созданы Богом — созданы диаволом»[183].
Таким образом, в пьесу не только вводятся автореминисценции. Ее текст становится отправным для тех книг о средневековых мистиках, над которыми Д. Мережковский работал в эмиграции.
Продемонстрируем это на еще одном примере. Третье действие пьесы открывается спором Ивана Сергеевича и Гриши о чуде:
«Иван Сергеевич. А потому и не верю, что 57 лет на свете прожил и ни одного чуда не видел.
Гриша. А, может быть, наоборот: не видели, потому что не верите?
Иван Сергеевич. А ты веришь и видел?
Гриша. Видел.
Иван Сергеевич. Удивительно! Математик — таблицу умножения отрицает: дважды два пять.
Гриша. Ну, нет, это не так просто. Таблица умножения — не вся математика. Вы Лобачевского знаете?
Иван Сергеевич. Геометрия четвертого измерения? Да ведь это, брат, темна вода во облацех — что-то вроде спиритизма.
Гриша. Нет, совсем в другом роде. И теорию „прерывов“ не знаете?
Иван Сергеевич. К чему тут „прерывы“?
Гриша. А к тому, что математическое понятие „прерыва“ и есть понятие „чуда“, — заметьте, чуда, а не фокуса» (353–354).
Ключевым именем для этого фрагмента является имя математика, создателя неэвклидовой геометрии Н.И. Лобачевского. Оно возникает в ряде статей Д. Мережковского, посвященных типологии «сверхчеловеческого». Этот фрагмент логично рассматривать в контексте высказываний Федора, приведенных выше, и двух статей.
«Байрон — человек из той же породы людей, как Наполеон и Лермонтов: кажется, это люди не совсем люди, — только пролетают через наш земной воздух, как аэролиты, <…> брошенные откуда-то вниз или вверх (где „низ“ или „верх“ мы не знаем; тут наша земная геометрия кончается)» («Байрон»);
«Любовь Лермонтова в христианский брак не вмещается. Христианский брак <…> можно сравнить с Евклидовой геометрией трех измерений, а любовь Лермонтова с геометрией Лобачевского, „геометрией четвертого измерения“» («М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества»).
Наиболее показательным, в этой связи, представляется перенесение этого же контекста в книгу о Паскале:
«Кажется иногда, что у Паскаля совсем иное, чем у других людей, ощущение пространства — как бы иная, не Евклидова, не земная геометрия, зависящая, может быть, от иного строения не только души, но и тела» («Паскаль»).
Таким же образом можно пояснить и упоминаемую Гришей «теорию прерывов». Д. Мережковский писал о ней единственный раз в статье «Семь смиренных» (1909), посвященной книге «Вехи».
«Существуют два понимания всемирной истории: одно, утверждающее „бесконечность“ и „непрерывность“ развития, ненарушимость закона причинности; для этого понимания свобода воли, необходимая предпосылка религии, есть метафизическое и теоретическое суеверие, другое — утверждающее „конец“, „прерыв“, преодоление внешнего закона причинности внутреннею свободою, то вторжение трансцендентного порядка в эмпирический, которое кажется „чудом“, а, на самом деле, есть исполнение иного закона, высшего, несоизмеримого с эмпирическим: свобода Сына не нарушает, а исполняет закон Отца. Первое понимание — научное, эволюционное, второе религиозное, революционное». <…> «всякий „прерыв“ есть предел, конец развития, — цель — в порядке теологии; всякое развитие есть подготовление, назревание, начало прерыва — начало конца — причина — в порядке детерминизма»[184].
Совмещение в одном фрагменте диалога этих двух тем — неэвклидовой геометрии Н. Лобачевского и «теории прерывов» становится готовой семантической конструкцией, которая вновь возникает в последней книге Д. Мережковского «Маленькая Тереза» (1941):
«Наше сознание запредельное (то, что Достоевский называет „бессознательным“) от сознания предельного, „душу ночную“ от „дневной“, наше бодрствование от подобного глубочайшему обмороку сна, отделяет лишь один волосок, но не переступаемый для нас, как бездна. Переход из одного порядка бытия в другой, из сознательного, „дневного“, в бессознательный, „ночной“, внезапен, как молния. Между этими двумя порядками находится то, что в математике называется „прерывом“, а в религии — „чудом“»[185].