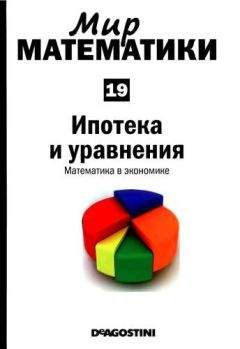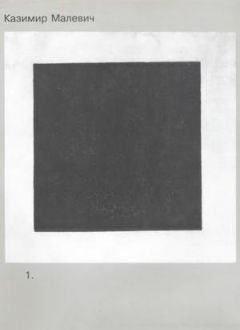Михаил Бахтин - Том 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л.Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927
Алеша категорически отрицает виновность Дмитрия.
«— Кто же убийца, по вашему, — как-то холодно, повидимо-му, спросил он (Иван, М. Б.), и какая-то даже высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса.
— Ты сам знаешь кто, — тихо и проникновенно проговорил Алеша.
— Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте, эпилептике? Об Смердякове?
Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит.
— Ты сам знаешь кто, — бессильно вырвалось у него. Он задыхался.
— Да кто, кто? — уже почти свирепо вскричал Иван. — Вся сдержанность вдруг исчезла.
— Я одно только знаю, — все так же почти шопотом проговорил Алеша: — убил отца не ты.
— «"Не ты"! Что такое не ты? — остолбенел Иван.
— Не ты убил отца, не ты! — твердо повторил Алеша. С полминуты длилось молчание.
— Да я и сам знаю, что не я, ты бредишь? — бледно и искривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алешу. Оба опять стояли у фонаря.
— Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты.
— Когда я говорил?.. Я в Москве был… Когда я говорил? — совсем потерянно пролепетал Иван.
— Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные два месяца, — попрежнему тихо и раздельно продолжал Алеша. Но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своею волей, повинуясь какому-то непреодолимому велению. — Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты. Меня Бог послал тебе это сказать»[129].
Здесь разбираемый нами прием Достоевского обнажен и со всею ясностью раскрыт в самом содержании. Алеша прямо говорит, что он отвечает на вопрос, который задает себе сам Иван во внутреннем диалоге. Этот отрывок является и типичнейшим примером проникновенного слова и его художественной роли в диалоге. Очень важно следующее. Свои собственные тайные слова в чужих устах вызывают в Иване отпор и ненависть к Алеше, и именно потому, что они, действительно, задели его за живое, что это, действительно, — ответ на его вопрос. Теперь же он вообще не принимает обсуждения своего внутреннего дела чужими устами. Алеша это отлично знает, но он провидит, что себе самому Иван — «глубокая совесть» — неизбежно даст рано или поздно категорический утвердительный ответ: я убил. Да себе самому, по замыслу Достоевского, и нельзя дать иного ответа. И вот тогда-то и должно пригодиться слово Алеши, именно как слово другого: «Брат, — дрожащим голосом начал опять Алеша, — я сказал тебе это потому, что ты моему слову поверишь, я знаю это. Я тебе на всю жизнь это слово сказал: не ты! Слышишь, на всю жизнь. И это Бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня»[130].
Слова Алеши, пересекающиеся с внутренней речью Ивана, должно сопоставить со словами чорта, которые также повторяют слова и мысли самого Ивана. Чорт вносил во внутренний диалог Ивана акценты издевательства и безнадежного осуждения, подобно голосу дьявола в проекте оперы Тришатова, песня которого звучит «рядом с гимнами, вместе с гимнами, почти совпадает с ними, а между тем совсем другое»… Чорт говорит как Иван, а в то же время как другой, враждебно утрирующий и искажающий его акценты. «Ты — я, сам я, — говорит Иван чорту, — только с другою рожей». Алеша также вносит во внутренний диалог Ивана чужие акценты, но в прямо противоположном направлении. Алеша, как другой, вносит тона любви и примирения, которые в устах Ивана в отношении себя самого, конечно, невозможны. Речь Алеши и речь чорта, одинаково повторяя слова Ивана, переакцентуируют их в прямо противоположных направлениях. Один усиливает одну реплику его внутреннего диалога, другой — другую.
Это — в высшей степени типическая для Достоевского расстановка героев и взаимоотношение их слов. В диалогах Достоевского сталкиваются и спорят не два цельных монологических голоса, а два расколотых голоса (один — во всяком случае — расколот). Открытые реплики одного отвечают на скрытые реплики другого. Противоставление одному герою двух героев, из которых каждый связан с противоположными репликами внутреннего диалога первого, — типичнейшая для Достоевского группа{74}.
Для правильного понимания замысла Достоевского очень важно учитывать его оценку роли другого человека, как другого, ибо его основные художественные эффекты достигаются проведением одного и того же слова по разным голосам, противостоящим друг другу. Как параллель к приведенному нами диалогу Алеши с Иваном приводим отрывок из письма Достоевского к А. Г. Ковнеру (1877 г.):
«Мне не совсем по сердцу те две строчки Вашего письма, где Вы говорите, что не чувствуете никакого раскаянья от сделанного Вами поступка в банке. Есть нечто высшее доводов рассудка и всевозможных подошедших обстоятельств, чему всякий обязан подчиниться (т. е. вроде опять-таки как бы знамени). Может быть, Вы настолько умны, что не оскорбитесь откровенностью и непризванностью моей заметки. Во-первых, я сам не лучше Вас и никого (и это вовсе не ложное смирение, да и к чему бы мне?), а во-вторых, если я Вас и оправдаю по-своему в сердце моем (как приглашу и Вас оправдать меня), то все же лучше, если я Вас оправдаю, чем Вы сами себя оправдаете. Кажется это не ясно»[131].
Аналогична расстановка действующих лиц в «Идиоте». Здесь две главных группы: Настасья Филипповна, Мышкин и Рогожин — одна группа, Мышкин, Настасья Филипповна, Аглая — другая. Остановимся только на первой.
Голос Настасьи Филипповны, как мы видели, раскололся на голос, признающий ее виновной, «падшей женщиной», и на голос, оправдывающий и приемлющий ее. Перебойным сочетанием этих двух голосов полны ее речи: то преобладает один, то другой, но ни один не может до конца победить другого. Акценты каждого голоса усиливаются или перебиваются реальными голосами других людей. Осуждающие голоса заставляют ее утрировать акценты своего обвиняющего голоса на зло этим другим. Поэтому ее покаяние начинает звучать как покаяние Ставрогина, или ближе по стилистическому выражению — как покаяние человека из подполья. Когда она приходит в квартиру Гани, где ее, как она знает, осуждают, она на зло разыгрывает роль кокотки, и только голос Мышкина, пересекающийся с ее внутренним диалогом в другом направлении, заставляет ее резко изменить этот тон и почтительно поцеловать руку матери Гани, над которой она только что издевалась. Место Мышкина и его реального голоса в жизни Настасьи Филипповны и определяется этою связью его с одной из реплик ее внутреннего диалога. «Разве я сама о тебе не мечтала? Это ты прав, давно мечтала, еще в деревне у него, пять лет прожила одна-одинехонька; думаешь-думаешь, бывало-то, мечтаешь-мечтаешь, — и вот все такого как ты воображала, доброго, честного, хорошего и такого же глупенького, что вдруг придет, да и скажет: "Вы не виноваты, Настасья Филипповна, а я вас обожаю!" Да так бывало размечтаешься, что с ума сойдешь…»[132]
Эту предвосхищаемую реплику другого человека она и услышала в реальном голосе Мышкина, который почти буквально повторяет ее на роковом вечере у Настасьи Филипповны.
Постановка Рогожина иная. Он с самого начала становится для Настасьи Филипповны символом для воплощения ее второго голоса. «Я ведь Рогожинская», повторяет она неоднократно. Загулять с Рогожиным, уйти к Рогожину — значит для нее всецело воплотить и осуществить свой второй голос. Торгующий и покупающий ее Рогожин и его кутежи — злобно утрированный символ ее падения. Это несправедливо по отношению к Рогожину, ибо он, особенно вначале, совсем не склонен ее осуждать, но зато он умеет ее ненавидеть. За Рогожиным нож, и она это знает. Так построена эта группа. Реальные голоса Мышкина и Рогожина переплетаются и пересекаются с голосами внутреннего диалога Настасьи Филипповны. Перебои ее голоса превращаются в сюжетные перебои ее взаимоотношений с Мышкиным и Рогожиным: многократное бегство из-под венца с Мышкиным к Рогожину и от него снова к Мышкину, ненависть и любовь к Аглае[133].
Иной характер носят диалоги Ивана Карамазова со Смердяковым. Здесь Достоевский достигает вершины своего мастерства в диалоговедении.
Взаимная установка Ивана и Смердякова очень сложна. Мы уже говорили, что желание смерти отца незримо и полускрыто для него самого определяет некоторые речи Ивана в начале романа. Этот скрытый голос улавливает, однако, Смердяков и улавливает с совершенной отчетливостью и несомненностью[134].
Иван, по замыслу Достоевского, хочет убийства отца, но хочет его при том условии, что он сам не только внешне, но и внутренне останется непричастен к нему. Он хочет, чтобы убийство случилось, как роковая неизбежность, не только помимо его воли, но и вопреки ей. «Знай, — говорит он Алеше, — что я его (отца, М. Б.) всегда защищу. Но в желаниях моих я оставляю за собой в данном случае полный простор». Внутренне-диалогическое разложение воли Ивана можно представить в виде, например, таких двух реплик: