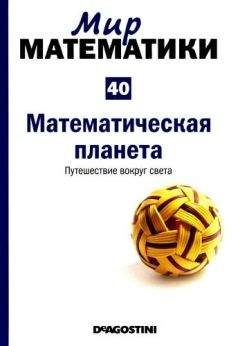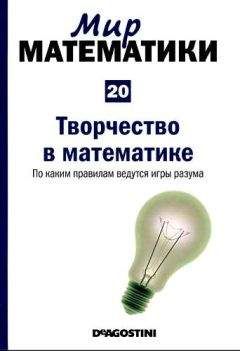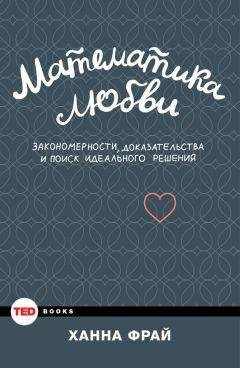Жан-Поль Рихтер - Приготовительная школа эстетики
Между тем переходить, смешивать здесь легко. Ибо коль скоро моральному гневу сатиры надлежит обращаться против двух таинств дьявола, против морального дуализма — против бессердечия и бесчестия, то в своих военных действиях против последнего она встретится с шуткой, оскорбляющей тщеславие неразумности в стычках с ним. Порождение нашего века — передразнивание светского тона, служащее настоящим посредником между сатирой и шуткой.
Чем менее поэтичны нация или время, тем легче принимают они шутку за сатиру, точно так же как, согласно сказанному, тем более обращают в шутку сатиру, чем более они безнравственны. Прежние ослиные праздники в церквах, ордена фатов и прочие забавы более поэтичного времени теперь вылились бы в чистые сатиры[141]; на месте невинного кокона шелковичного червя, откуда вылетает бабочка, сеть паука-сенокосца, ловящего мух. Нам недостает шутки, потому что недостает... серьезности, которую замещает теперь все уравнивающее остроумие, что смеется равно над добродетелью и пороком и упраздняет их. Поэтому именно нация, любящая дразнить, менее всего способна померяться с серьезной британской в юморе и в поэтической комике. Вольная шутка при дворах и в Париже превращается в скованный намек, и парижане, болезненно склонные к остроумным намекам, лишают себя и вольности и способности наслаждаться серьезной поэзией. Поэтому важные испанцы создали больше комедий, чем любой другой народ, и в одной пьесе у них бывает иной раз по два арлекина.
Более того: серьезность — это условие шутки, что доказывается даже и примером индивидов. В суровом духовном сословии были величайшие комические писатели[142]: Рабле, Свифт, Стерн, — Юнг{5} на положенной дистанции, — Авраам от Святой Клары{6} на еще большем расстоянии и Ренье, а на самом большом удалении от них можно поместить еще одного поповского сына{7}. Это{8} плодоносное прививание шутки к серьезности еще более подтверждается косвенными наблюдениями. Так, у серьезных наций — более высокое и проникновенное чувство комического; чтобы не упоминать серьезных британцев, столь же суровые испанцы создали, согласно Риккобони, больше комедий, чем итальянцы и французы, вместе взятые. Так, по Боутервеку{9}, испанская комедия цвела и блистала как раз в правление трех Филиппов, с 1556 по 1665 год; и в то время как Альба душегубствовал в Нидерландах, Сервантес рожал в темнице «Дон Кихота», а Лопе де Вега, доверенное лицо инквизиции, создавал свои веселые пьесы. Если собирать подобные исторические совпадения, не притязая на категоричность суждений, то можно, наверное, продолжать и дальше и даже добавить к сказанному, что мрачная Ирландия произвела на свет великолепных комических писателей, которые тем самым Предполагают наличие большого числа комиков, хотя бы чисто компанейских. Назовем среди этих писателей, помимо Свифта и Стерна, графа Гамильтона{10}, который в жизни был тихим и сосредоточенным, как знаменитый парижанин Карлен{11}. Наконец, юмор, ирония и всякая комическая сила растет с годами, и в печальные туманные годы старости, словно бабье лето, с радостью и весельем врывается комическая веселость.
Утратив былую суровость, по крайней мере в веселом Лейпциге, немцы потеряли своего шута Гансвурста{12}. Но все равно мы, верно, достаточно серьезны для того, чтобы придумать ту или иную шутку, — если бы только были мы больше гражданами (citoyens), чем мещанами! Поскольку у нас нет ничего общественного, а все только домашнее, то каждый краснеет, увидев в печати свое имя, и я вспоминаю, как сочинитель этих строк, объявляя в городском еженедельнике о потерянной им на бульваре патентованной пряжке, закончил так: «Кто? — спросить в конторе издания». Поскольку у нас не индивид, как в Англии, открыто удостаивается почестей, а сословие, то никто и не желает терпеть открытой шутки. Ни одна немецкая мать семейства никогда не позволила бы выпрясть из своего отрезанного локона героическую поэму{13}, как поступила англичанка, — если только не поэму серьезную, — и еще менее согласилась бы она на шутливое посвящение Поупа, то есть на его сдержанную похвалу. Немец немыслимо скромен. Если Шлихтегроллю{14} посылают материал для биографии и некролога, то семейство, быть может, с известной откровенностью выдаст немало семейных тайн рода человеческого, как-то: даты смерти, рождения, бракосочетания покойного, равно как число выслуженных им лет, а также сообщит секретные сведения о том, что покойник был добрым отцом, верным другом и во всем остальном самым лучшим человеком в целом свете. Но если случится затесаться в эту посылку какому-нибудь рассказу, в котором почивший в бозе или кто-нибудь из его сограждан выставляются напоказ в аккуратнейшем шлафроке, а не в серебре и шелках, так семейство немедленно заберет посылку с почты и изымет рассказ, чтобы никого не скомпрометировать. И не только ни одна немецкая семья не отрежет отцу семейства голову и не отправит ее д-ру Галлю для изготовления с нее гравюр на меди{15} (да и никто не захочет тут посылать чью-либо голову, если не свою собственную), но она косо посмотрела бы, будь она семейством Вольтера, и на то, что редактор «Французского гражданина», Лемер, носит на руке, в золотой оправе, зуб старого злого кусачего сатирика: «Почему, — так заявит семейство, — почему наш добрый гросфатер должен бегать по улицам и переулкам и перед целым миром обнажать свой клык, по праву принадлежащий семье, тем более что зуб тронут кариесом и в остальном тоже не без изъяна?»...
§ 30{1}. Источник удовольствия от смешногоВыведывать и выслеживать этот источник, текущий в глубине и неровно, — и трудно и неизбежно; лишь он явит на свет божий природу смешного. Из какого бы определения, за исключением одного-единственного, ни пытаться выводить его радостные дары, ни одно — ни, к примеру, безвредная несуразица, ни истаивание в ничто, ни болезненное нарушение рассудочной целокупности, — короче, ни один из всех этих доподлинных изъянов неспособен уготовать радость и увеселение духу человеческому, и без того напуганному всякими недостатками и нехватками, а тем менее способен доставить столь потрясающую душу радость, чтобы человек уже не владел телесным эпилогом духовной игры, как случилось то с греком Филемоном, который был к тому же комическим поэтом, которому пошел притом сотый год и который в довершение всего умер от смеха при виде всего лишь жрущего финики осла. Комическое даже и в искусстве, бывает, щекочет душу почти до боли; например, когда в «Абдеритах» Виланда у целого городского совета в момент испуга вдруг выпадают спрятанные за пазухой кинжалы и все стоят друг перед другом при полном блеске вооружения — когда в «Перегрине Пикле» Смоллета художник, желая попасть впотьмах в чужую постель, шарит рукой — и эта рука вдруг, словно на круглый шар, ложится на голую голову монаха, который сидит притаившись рядом с постелью, и затем голова начинает медленно-медленно подниматься и поднимать руку, а художник не может надивиться на это непонятное ему движение, пока наконец рука, соскользнувши с лысины, не оказывается прямо между челюстями бывшего шара... Подобную же неприятно-щемящую сверхсладостность комического всем нам известный писатель почувствовал, когда вовсю расписывал сцены вроде той, где рассеянный пастырь общины[143], взошедши на кафедру, преклоняет колени и все то время, пока прихожане поют, молится, пропускает мимо ушей конец хорала, остается в прежнем положении и затем долго-долго прислушивается к онемевшей пастве, ждущей, что вот-вот он распрямится, — но наконец выбирается из парика, украдкой спускается в ризницу, а осиротелый парик оставляет адъюнкт-проповедником своим на кафедре.
Смех физический — или следствие духовного, и тогда он с тем же успехом служит и выражению боли в гневе, буйстве, отчаянии и т. д., или же он возник, не вызванный духом, и тогда он просто причиняет боль, как смех при ранениях диафрагмы, в припадке истерии, даже от щекотки. Впрочем, один и тот же член тела может следовать самым разным движениям духа: одна и та же слеза — и роса радости, и грозовая капля боли, и ядовитый пот гнева, и святая вода восторга. Объяснять смехом физическим удовольствие от духовного смеха значило бы источником сладких элегических слез считать позыв к опустошению глаз.
Из всех дедукций комического удовольствия на основе духовного самая несостоятельная — Гоббсова, объясняющая смех гордыней{3}. Во-первых, гордость — очень серьезное чувство, совсем не родственное комическому, хотя и родственное столь же серьезному презрению. Смеясь, не столько чувствуешь, как поднимаешься вверх сам (чаще вероятно, чувствуешь обратное), сколько чувствуешь, как другой идет вниз. Эта чесотка — всех сравнивать с собой и себя со всеми — должна была бы появляться, будь только она комическим удовольствием, всякий раз при восприятии чужой ошибки и чужой низости, смех был бы тем громче, чем выше стоишь сам, тогда как, наоборот, часто с болью в сердце видишь унижение другого.