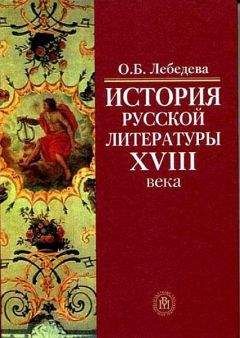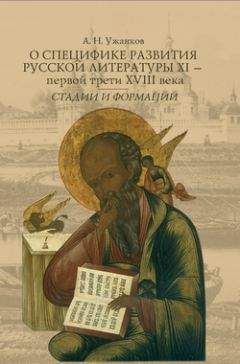Ариадна Эфрон - История жизни, история души. Том 3
Только небольшое замечание об одном выраженье. Я боюсь, что у нас не во всем совпадает лексикон. Слова “артист” и “объективность” могли быть оставлены тобой... я же их захватил с собой.
...Ты объективна, ты главным образом талантлива - гениальна. Последнее слово зачеркни, пожалуйста. В личном употреблении это галерочное, парикмахерское слово. Когда я с ним сталкивался, мне становилось не по себе, как, вероятно, и тебе. Его когда-нибудь о тебе скажут - или не скажут. Всё равно, не отрицательная гадательная такса, а положительная загадочность слова висит всегда над тобой воздушной крышей, под которую, год за годом, ты выводишь свою физику.
Важно то, чем ты занимаешься. Важно то, что ты строишь мир, венчающийся загадкой гениальности
В твои дни, при тебе, эта крыша растворена небом, живой синевой над городом, где ты живёшь, или который, за писаньем физики, воображаешь. В другие времена по этому покрытию будут ходить люди и будет земля других эпох. Почва городов подперта загаданной гениальностью других столетий.
...Ты пишешь о своём недохождении при первой читке, о круговом мол -чании, воцаряющемся за ней. Мой опыт в этом отношении страдает если не той же, то очень близкой правильностью. Только самые ранние и сырые вещи, лет пятнадцать назад (т. е. буквально первые и самые начальные), доходили (но и до полутора только человек) - немедленно.
Вскоре же я стал считать двухлетний промежуток между вещью и её дохождением за мгновенье, за неделимую единицу, потому что только в редких случаях опаздывали на эти два года, чаще же на три и больше...»
Всего два-три, ну, скажем, три-четыре года между созданием трудночитаемой вещи и её дохождением до читателя! То есть — почти параллельный, почти синхронный рост пишущего и читающего! Нет, о подобных сроках Марина не могла и мечтать. Она вообще не могла мечтать ни о каких прижизненных сроках дохождения там, на чужой стороне, потому что её читатель (не читатель — исключение, а читатель как естественно-массовое явление) в эмиграции отсутствовал, его просто не существовало, и неоткуда было ему взяться по тем временам и условиям. Он, захвативший с собой сотрадиционных ему писателей и поэтов, равно как и сотрадиционных им критиков, не тяготел к новизне, не будучи к ней причастен ни сном, ни духом, ни трудом, ни умом, и был к ней в лучшем, в наимилосерднейшем для этой новизны случае равнодушен и глух, как пень.
Марина, писавшая Пастернаку: «Ничья хвала и ничьё признанье мне не нужны, кроме Вашего», — утверждала это зажмурившись; кому, как не ей, было знать, что поэты пишут не для поэтов, и даже не для Поэта с большой буквы, каким был для неё Пастернак; и что скульптуры ваяют не для скульпторов; и музыканты творят не для музыкантов; что всё подлинное творится для множества людей, ради их жажды к творимому, как к насущному.
Кому, как не ей, было знать, сколь не вечен единственный читатель, даже если он поэт, тем более, если он поэт... Ведь она сама бывала столь непостоянна в своих высоких верностях!
Пока же они оба стремились друг к другу, рвались к несбыточной встрече, обменивались рукописями только что написанного, книгами, журнальными публикациями; перехлёстываясь через письма, они делались достоянием многих; Пастернак, «обобществления» которого страшилось Маринино воображение, вскоре стал заочным членом нашей семьи, тем самым «диким и ручным племянником и дядей»; другом близких Марининых и Серёжиных друзей; поэтом, читаемым и любимым той горсткой людей, чьи лица и души уже поворачивались к новой России. Первым изданием, опубликовавшим в начале 20-х годов на чужбине стихи советских поэтов (само собой разумеется, и Пастернака), был пражский студенческий журнал на русском языке «Своими путями»34, редактировавшийся моим отцом...
В 1924 году Пастернак опубликовал несколько цветаевских стихотворений «чешского периода» в альманахах «Русский современник»35 и «Московские поэты»36; остальные же её произведения, доходившие, из рук Пастернака и Эренбурга, главным образом, до советских поэтов, встречали у многих из них то признание и понимание, каких ей не случалось встречать и не привелось дождаться от эмигрантских «собратьев». Вот, к примеру, отрывок из письма Семена Кирсанова37, написанного им в августе 1926 года своему другу Эмилю Фурманову38:
«...Помнишь, мы читали М. Цветаеву? Так вот: Пастернак получил из Праги её две вещи — “Поэма Конца” и “Крысолов”. По мнению Асеева, Пастернака, моему и других — это лучшее, что написано за лет пять. “Поэма Конца” нечто совершенно гениальное, прости за восторженность! “Крысолов” — верх возможного мастерства. Если мне удастся переписать их — я тебе пошлю отрывки...»
В 1927 году на вопрос Пастернака, не страдает ли Марина от своей — в эмиграции — безвестности, от неправомерности этой безвестности и непризнанности, она отвечает:
«... Гы взволновался о славе. [О том, что] теряю свой «час славы». Есть ли в этом горечь?Досада, пожалуй. И вот почему: когда я пишу, я ни о чём не думаю, кроме вещи. Потом, когда написано — о тебе. Когда напечатано — о всех.
И вот, моё глубокое убеждение, что — печатайся я в России, меня бы вс£ поняли. Да, да, все — из-за моей основной простоты; потому что каждый бы нашёл своё, потому что я — много, множественное. И меня бы эта любовь — несла. Просто — в России сейчас есть пустующее место, по праву — моё...»
Объясняя, почему она считает себя более «доходчивой» до российского читателя, чем Пастернак, Марина пишет:
« Ты читателя в себя вводишь, я — вывожу, раскрепощаю. Я — одна секунда в жизни читателя, толчок. Дальше — его дело, действие. Ты видимое превращаешь в невидимое (явное делаешь тайным), я — невидимое в видимое (тайное — явным).
Но, чтобы вернуться к славе — моих книг в России нет, и поэтому поэта — нет.
...Мой отрыв от жизни становится всё непоправимее. Я “переселилась”, унося с собой все страсти, всю нерастрату — не тенью, обессиленной жизнью, а живою — из живых...»
Этой беде, этому отрыву «из живых» Пастернак помочь не мог — да и кто мог, да и что — могло? Оторвавшись от России, не влившись в эмиграцию, Марина постепенно становилась как бы неким островом, отделившимся от родного материка — течением Истории и собственной судьбы. Становилась одинокой, как остров, со всеми его (своими!) неразведанными сокровищами...
Пастернак остро и болезненно ощущал эту отторгнутость Марины, неумолимую последовательность, с которой обрывались связующие её с Россией нити живых человеческих отношений, и поэтому, узнав об отъезде за границу - по приглашению Горького - Анастасии Ивановны Цветаевой (которую хорошо знал), - обрадовался предстоящему празднику свидания сестер39.
«Конечно, ты уже списалась с Асей и поражена этой сбывшейся несбыточностью не меньше моего... Известие это привёз брат, да и то не сам говорил с ней по телефону, а соседи передали... Тот факт, что она не известила меня о поездке заблаговременно, при вероятной суматохе последних сборов, не стоит упоминания. Я что-нибудь может быть передал бы! Всё равно, ей есть что рассказать и передать, если только избыточная, переливающаяся через край полноподробность встречи с тобой не вытеснит памяти о всех Мерзляковских и Волхонках...» (А. И. Цветаева жила в то время в Мерзляковском переулке, а Борис Леонидович — на Волхонке.)
Он нетерпеливо ждал возвращения Аси, встречал её на вокзале, жадно, с печалью и всё же надеждой слушал её рассказы...
«Дорогая Марина! Валит снег, я простужен, хмурое, хмурое утро. Хорошо, верно, сейчас проплыть на аэроплане над Москвой, вмешаться в этот поход хлопьев и их глазами увидать, что они делают с городом, с утром и с человеком у окна...
Вот главные нервные пути моего влеченья к тебе, способные затмить более непосредственные: мне нужно «соблазнить» тебя в пользу более светлой и менее отречённой судьбы, нежели твоя нынешняя, и я это так чувствую, точно именно это, а не что-нибудь другое, составляет мою грудь и плечо...
По словам Аси, она старалась рассказывать обо мне в наивозможно худшем духе (чтобы уберечь тебя от неизбежного разочарования ?). Она либо клеплет на себя, либо поступила как надо, либоже... а, да мне всё равно. Замечательно, что о тебе она рассказывала так, что я с трудом удерживался от слёз: очевидно, на мой счёт у ней нет опасений...