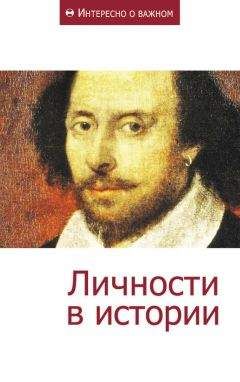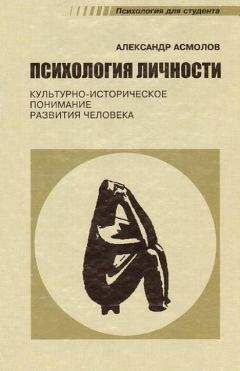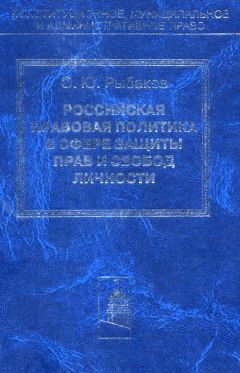Владимир Кантор - В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: опыт русской классики
Чтобы понять мысль Герцена, отчего независимость, критический пафос русской литературы являются выражением революционности, вспомним его рассуждения о личности как высшей точке развития человечества и её судьбы в России. Вся деспотия в России строится на отсутствии личностного начала, полагал Герцен. Но именно этот фермент, эту «закваску» деятельности, личностного начала, свободы и вносила в русскую жизнь русская литература и искусство. Иными словами, она совершила не политическую, социально-культурную революцию.
Система ценностей, ориентированная на подавление личности, начинает расшатываться, хотя ещё не предложена новая социально-философская и эстетическая система координат, в корне отрицающая выработанную веками. Таковой стала только, как я уже говорил в первой главе, диссертация Чернышевского, выдвинувшая в противовес системе ценностей, направленной на уничтожение независимо мыслящего человека, да и вообще не считавшейся с человеческой жизнью, тезис, что «прекрасное есть жизнь», понимаемая как свободное развитие индивидуальности, Но пафос независимости от государства, пафос свободы, цивилизации и культуры входит в Россию с развитием литературы и искусства. Постоянное усилие, направленное на утверждение свободы и независимости, осуществляла литература, но не потому, что она однообразно и декларативно повторяла призывы к свободе, а потому, что она воистину оказалась независимой и свободной. Независимость эта проявилась, прежде всего, в критической направленности русского искусства. Герцен увидел в русской литературе залог национального пробуждения, которое может совершиться только через самокритику. Если бы не было такой литературы, то не было бы надежды для России преодолеть самодержавный деспотизм, а, следовательно, и мировая культура после ожидаемой гибели Европы «в тине мещанства» лишилась бы последнего шанса на дальнейшее развитие. Чтобы Россия могла осознать своё великое призвание — быть наследницей Европы, она должна очиститься от наносной грязи, найти в себе здоровые силы. «Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда, который издаёт человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале своё оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения»{251}.
Эта почти инстинктивная реакция подлинного искусства на давление самодержавия, неприятие крепостнической действительности, ощущение гибельности для личности российского деспотизма можно найти не только у Гоголя или в откровенно протестующей поэзии Лермонтова, но и в такой, казалось бы далёкой по сюжету от российской действительности картине Карла Брюллова, как «Последний день Помпеи». Ещё в своей статье 1842 года «Москва и Петербург» Герцен писал об этой картине: «Художник, развившийся в Петербурге, избрал для кисти своей страшный образ дикой, неразумной силы, губящей людей в Помпее, — это вдохновение Петербурга!»{252}
Если де Кюстин считал, что в России невозможно искусство из-за самодержавно-деспотического подавления личности[13], то Герцен именно в искусстве видел залог и возможность русского освободительного движения. Но он полагал, что стоит русскому искусству отказаться от своей оппозиционности по отношению к самодержавию, оно просто-напросто перестаёт быть искусством. Более того, русское общество уже видит в искусстве спасительную, раскрепощающую душу силу, а потом и общество, — воспитанное уже русской литературой, оказывает обратное влияние на неё в этом тоже залог, что искусству не сойти со своего пути: «В России все те, кто читают, ненавидят власть… От Пушкина — величайшей славы России — одно время отвернулись за приветствие, обращённое им к Николаю после прекращения холеры, и за два политических стихотворения. Гоголь, кумир русских читателей, мгновенно возбудил к себе глубочайшее презрение своей раболепной брошюрой»{253}.
Через литературу и искусство в Россию входил момент сознательной оппозиции существующему строю. Инстинктивное отталкивание от режима людей мысли приводит их, в конечном счёте, к сознательному протесту: «мало-помалу литературные произведения проникались социалистическими тенденциями и одушевлением»{254}. Иными словами, с одной стороны, литература писала о ненормальности, ужасе российской действительности, критикуя её, с другой — вводила Россию в мир передовых европейских идей, на основании которых, полагал Герцен, и надо перестраивать русскую жизнь.
Таким образом, говоря о революционном характере русской литературы, мы видим, что дело в конечном счёте не в прогрессивности или консервативности политических взглядов тех или иных писателей. Революционный пафос всей русской литературы заключался в самом принципе подхода к действительности, в идее, противостоявшей самодержавному диктату, — идее независимой, раскрепощённой личности, сумевшей вытравить из своей души рабское начало.
VIII. КНИЖНОСТЬ И СТИХИЯ В ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
«Революция — стихия… »
Землетрясение, чума, холера, тоже стихии.
И. Букин. Окаянные дни.
Процесс приобщения России к цивилизации, тесно связанный, на взгляд Чернышевского, с «прогрессом в жизни народов»[14], был сложным, переживал подъёмы и спады. Но движение это не было простым в любой стране. Говоря о начале русской истории, С. М. Соловьёв писал: «История — мачеха заставила одно из древних европейских племён принять движение с запада на восток и населить те страны, где природа является мачехою для человека. В начале новой европейско-христианской истории два племени приняли господствующее положение и удержали его за собою навсегда: германское и славянское, племена-братья одного индоевропейского происхождения; они поделили между собой Европу, и в этом начальном дележе, в этом начальном движении — немцев с северо-востока на юго-запад, в области Римской империи, где уже заложен был прочный фундамент европейской цивилизации, и славян, наоборот, с юго-запада на северо-восток, в девственные и обделённые природою пространства, — в этом противоположном движении лежит различие всей последующей истории обоих племён»[15]). Попробуем прокомментировать эти соображения историка применительно к нашей проблеме.
Германские варвары, разгромившие Римскую империю, затопившие её на протяжении IV — VI вв., стали подвергаться медленному воздействию античной культуры в её христианизированном варианте (ибо нельзя забывать, что Римская империя к концу IV в. уже приняла христианство как официальную религию). Как показывают отечественные исследователи (М. Л. Гаспаров, М. Е. Грабарь — Пассек, А. Я. Гуревич и др.), это усвоение римско-христианской культуры заняло практически всю эпоху средневековья. Надо сказать, что в период Киевской Руси славяне находились в достаточно благоприятном положении по отношению к античному наследию благодаря близости к Византии. Рим был разгромлен, Византия процветала. Отсутствие памятников культуры на собственной почве скажется много позже. Пока же не случайно Киевская Русь в Χ в. обратилась за государственной религией к православной Византии, а не к католическому Западу, видя в Константинополе — «Царьграде» — высший по тому времени уровень цивилизации. В поисках цивилизации Руси было бессмысленно обращаться к Западной Европе, где среди захвативших её племён ещё в IX в. сохранялись пережитки каннибализма. Даже Гегель, видевший в германских племенах носителей нового, высшего духа, писал, что в IX в. в Европе «на рынках открыто продавалось человеческое мясо. При таких обстоятельствах у людей нельзя было найти ничего, кроме беззакония, скотских вожделений, грубейшего произвола, обмана и хитрости»[16]. Конфликт «учёной» культуры средневековья, «религии Книги» и культуры народной был там в самом разгаре. После завоевания (в конце VIII столетия) Италии Карлом Великим, вывезшим оттуда книги и малонужных там книжников, империя франков переживает краткий период так называемого «каролингского возрождения» (IX в.). Но подлинного синкретического скрещивания книжной и народной культуры, их творческого диалога, в результате которого возникли национальные литературы Западной Европы, ещё не произошло. Образованность и элементарная цивилизованность хранились только в монастырях[17]. Но «разобщённая в разобщённой Европе, лишённая воздействия более культурных кругов, вынужденная применяться к нуждам безостановочного притока полуграмотных и вовсе безграмотных неофитов, монастырская культура стояла перед угрозой постепенной варваризации, полного растворения в народной культуре. Признаки этой опасности были вполне реальны: если вторая половина IX в. была временем обильнейшей и разнообразнейшей литературной продукции, то первая половина Χ в. поражает совершенным бесплодием»[18]. Естественно, что Киевская Русь потянулась туда, где христианство было напрямую связано с античной цивилизацией, ибо идти на выучку можно было только к Византии. Но вот как идти? И тут становится ясно, что племенам, попавшим в Европу, было много проще. «Недостатки нашей народности вышли не из духа и крови нации, — писал Белинский, — но из неблагоприятного исторического развития. Варварские тевтонские племена, нахлынув на Европу бурным потоком, имели счастье столкнуться лицом к лицу с классическим гением Греции и Рима — с этими благородными почвами, на которых выросло широколиственное, величественное древо европеизма»[19]. Эти племена были окружены памятниками античной культуры: архитектура, настенная живопись, скульптура, даже дороги, проложенные в Древнем Риме, использовались ещё в XIX в. И тут же были рукописи книг, книгохранилища, залежи книг в монастырях, за которыми никуда не надо было ходить, только бы самим не уничтожить. И при этом всё это вроде бы стало «своим», присвоенным по праву завоевания. На Руси всё было не так. Мы явились в свет на почве не разработанной, писал Чаадаев, не оплодотворённой предшествующими поколениями, в стране, где ничто не говорило нам об истекших временах, где не было никаких следов исчезнувшего мира. Походы на Константинополь и даже победы над ним («щит на вратах Цареграда»), как и впоследствии после победы над Наполеоном взятие Парижа приобщали к непосредственному, так сказать, интимному восприятию цивилизации, визуальному и телесному, лишь малую часть народа — войско. Остальных всех учили «по книге». Если в Европе книжная культура, о которой мы упоминали выше, не была для массы, для большинства единственным цивилизующим средством, то на Руси книги играли роль несравненно более важную, нежели на Западе.