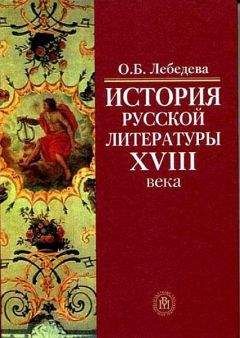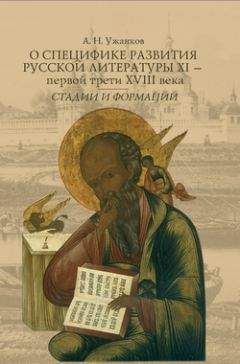Ариадна Эфрон - История жизни, история души. Том 3
Всё изменилось в одно мгновение, в то самое, когда грянула «музыка революции», когда ранее не слышимое Мариной и невнятное ей обрело голос, силу которого она восприняла и вобрала в себя с тех пор и навсегда. (Пройдёт время, и сама она, всё та же и далеко уже не та Цветаева, в известном своём письме к Маяковскому провозгласит не только силу, но и правду России революционной.)
Именно тогда, когда улицы и площади Москвы заполнились невиданными, немыслимыми доселе хозяевами и зазвучали неслыхан-
ными доселе речами, Маринины тетради насытились записями разговоров, рассказов, реплик, подхваченных ею налету, везде и всюду: в детских распределителях и театрах, на вокзалах, в трамваях и на толкучках, в учреждениях и на церковных папертях, на бульварах и в очередях. Именно тогда, захваченная и растревоженная новыми для себя голосами, Марина прильнула к фольклорным источникам своих поэм, как к истокам этих голосов, и в Афанасьевских сборниках открыла для себя уже теперь не детские сказки, а принявшую их обличив зашифрованную летопись былых судеб и былых событий, вечных страстей и подвигов человеческих, летопись трагедий и надежд на избавительные чудеса...
Именно тогда постепенно ушло, вытеснилось из цветаевского творчества грациозное «шопеновское» начало, в последний раз расцветшее циклом пьес, ею самой впоследствии названным «Романтика»; расставаясь с Музой, как с юностью, Марина вручила свою участь поэта неподкупному своему, беспощадному, одинокому Гению.
Не Муза, не Муза, - не бренные узы Родства, — не твои путы,
О Дружба! — Не женской рукой, — лютой!
Затянут на мне -Узел...9
В пансионе на Прагерплац жили — семьями и в одиночку - литераторы, издатели и окололитературные деятели всех мастей, недавно прибывшие из России, а кафе «Прагердиле» — перекрёсток, на котором встречались все, - являлось неким скромным провозвестником всех будущих Монпарнасов10 эмиграции; за его столиками, как ни в чем не бывало, «решались судьбы» мирового и отечественного искусства, а также самого отечества и всего мира; заключались издательские договора; завязывались и развязывались деловые и личные отношения; вспыхивали ссоры и наступали перемирия — за чашкой послевоенного эрзац-кофе или за кружкой пива; Эренбург пил пиво, и я с ним наравне, вплоть до приезда моего отца, который, ужаснувшись, твердой рукой перевел меня на лимонад.
Марина скоро перезнакомилась со всеми, а подружилась, как всегда, с немногими и ненадолго - с художницей Любой Козинцевой, женой Эренбурга, с другой художницей, ученицей Билибина", Людмилой Чириковой12 (дочерью известного в своё время писателя), молодым издателем Геликоном13 (ибо в «Прагердиле» издателей величали именами издательств, а не наоборот!).
О Геликоне и его «конторе» я записала тогда:
Контора его - для него — весь мир. Стол, который стоит у окна с толстым стеклом и на котором разложены все издания
Геликона — чужих изданий на своём столе он не терпит; три шкафа с книгами; над ними — китайский божок. За стеной, в маленькой комнатке, стучат на машинках сквозная барышня-секретарь и иногда молодой человек разбойного вида — сам себя печатающий Эренбург.
Посещают Геликона самые разнообразные личности: какой-то старый господин с часами на обрывке собачьей цепи (золотая цепочка продана!), худые унылые вдовы писателей, приходящие в надежде на то, что Геликон будет выдавать им пособие за мужей; судорожно пляшущие на стуле литераторы, надеющиеся облагодетельствовать Геликона переводом своей же книги на испанский язык... Всё, что никому понадобиться не может, приходит (на двух ногах) и притаскивается (в портфелях) к Геликону, он старается никого не обидеть, но все ругаются, что он мало платит.
Геликон всегда разрываем на две части — бытом и душой. Быт - это та гирька, которая держит его на земле и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый. На самом деле он может и не разрываться — души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, сон, уют, а этого как раз душа и не даёт.
Когда Марина заходит в его контору, она - как та Душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя, не опускаясь к нему. В Марининой дружбе нет баюканья и вталкиванья в люльку. Она выталкивает из люльки даже ребёнка, с которым говорит, причём божественно уверена, что баюкает его - а от таких баюканий может и не поздоровиться. Марина с Геликоном говорит, как Титан, и она ему непонятна, как жителю Востока - Северный полюс, и так же заманчива. От её слов он чувствует, что посреди его бытовых и тяжёлых дел есть просвет и что-то не повседневное. Я видала, что он к Марине тянется, как к солнцу, всем своим помятым стебельком. А между тем солнце далеко, потому что всё Маринино существо - это сдержанность и сжатые зубы, а сам он гибкий и мягкий, как росток горошка.
Должна сказать, что, прочтя в моём дневничке эту — и ещё некоторые — характеристики «взрослых», Марина призадумалась, найдя их, для девочки неполных десяти лет, чересчур проницательными и к тому же фамильярными, без надлежащего соблюдения дистанции между младшим возрастом и старшим; призадумавшись же — немедленно водворила меня в детство, поручив заботам весьма необаятельной гувернантки, пасшей четырёхлетнего сына Геликона, Женю14.
И стали мы с Женей пастись целыми днями в берлинских скверах и парках, а тетради мои покорно запестрели зарисовками Геликона-младшего, мальчика как мальчика.
Только добрый Эренбург иногда вновь перетягивал меня в мир взрослых, вернее - в свой собственный, читал отрывки из «Тринадцати трубок» и даже «подарил» ту из них, в которой бегемот съедает миссионера. (Меня, растолстевшую и подросшую, Эренбург прозвал «Бегемотом».) Порой мы бродили по улицам, любуясь на собак, особенно на тех, запряжённых в тележки, которые развозили молоко. «Собачья жизнь у человека, — объяснял мне Эренбург, — это когда он не может завести себе собаку...»
Послевоенный Берлин, резко благоухавший апельсинами, шоколадом, хорошим табаком, выглядел сытым, комфортабельным, самодовольным, но - страдал от инфляции и жил на режиме удушающей экономии. Цены вздувались день ото дня. За табльдотом нашего пансиона нас кормили всё уменьшавшимися порциями редиски, овсянки, лапши, впрочем, безупречно сервированными. Что до геликонов-ских гонораров, то они и впрямь были миниатюрны, как, впрочем, и тиражи, и форматы выпускаемых им изящных книжечек, и собрать сумму, необходимую на приезд Серёжи (жившего в Праге на тощую студенческую стипендию) и на наш последующий отъезд в Чехословакию, было мудрено.
Когда Любовь Михайловна повела нас с Мариной в «КДВ», крупнейший тогда столичный универмаг, она обратила наше внимание на гигантскую пепельницу, стоявшую на особом столике в холле. На ней были аккуратно разложены недокуренные сигары, снабжённые фирменными бланками с фамилиями... курильщиков. Оказывается, каждый покупатель, входивший в магазин с сигарой в зубах, оставлял её в пепельнице, чтобы на обратном пути закурить её же вновь... Маленькие, размером с визитную карточку, бланки и толстый карандаш на цепочке лежали тут же, а прикурить можно было от газового рожка, сэкономив собственную спичку...
Марина купила первые после неподъёмной разлуки подарки Серёже: тёплое бельё, носки, шарф и, «для души», портсигар: «Теперь он, наверное, курит...» Мне, покачав головой на цену, - полосатое платье с матросским воротником; и, под категорическим нажимом Любови Михайловны, платье себе, совсем уж про- л м Козинцева-Эренбург стенькое «бауэрнклайд»; крестьянский ЭТОТ, Портрет работы Р. Фалька ситцевый фасон с обтянутым лифом и сборчатой юбкой она любила и носила всю жизнь, каждое лето этой жизни.
Андреи Ье шй Портрет роботы Н Вышеславцева
И обувь себе купила грубую, надёжную: горские полуботинки на толстой подошве, с прикрывающими шнуровку бахромчатыми кожаными языками...
А носили тогда лодочки на острых каблучках, ажурные чулки, кисею, батист, вуаль. Но с октября 1917 года Марина больше никогда не оглядывалась на моду: дорого, неразумно... и всегда выходит из моды!
...Изредка в Берлин наезжал, из ближнего Цоссена, Андрей Белый, сраженный разрывом с женой, Асей Тургеневой, потерянный, странный, глубоко несчастный, с безумными, запредельными глазами. Удар его беды Марина тотчас же приняла на себя, в себя, естественно и привычно впряглась в эту упряжку. Несмотря на то, что окружающие относились к нему сердечно, бережно, хоть и не без доли почтительного страха, одна лишь Марина оказалась в ту пору пристанищем его смятенной души...
«Моя милая, милая, милая, милая Марина Ивановна, — писал он ей в июньском письме того, 1922, года, — ...в эти последние, особенно тяжёлые, страдные дни Вы опять прозвучали мне: ласковой, ласковой, удивительной нотой: доверия... Бывают ведь чудеса! И чудо, что иные люди на других веют благодатно-радостно: и — ни от чего... Знаете, что за день был вчера для меня? Я окончательно поставил крест над Асей... И мне показалось, что вырвал с Асей своё сердце; и с сердцем всего себя; и от головы до груди была пустота... Я заходил в скверы, тупо сидел на лавочке; и заходил в кафе и в пивные; и тупо сидел там без представления пространства и времени. Так до вечера. И когда я появился вечером — опять повеяло вдруг, неожиданно, от Вас: щебетом ласточек, и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина — есть, и что ничто не погибло...»