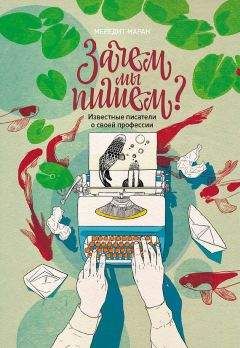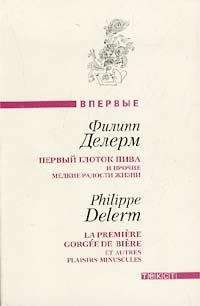Андрей Зорин - «Столетья на сотрут...»: Русские классики и их читатели
Кто ж родился мужчиною, тому Рядиться в юбку странно и напрасно: Когда‑нибудь придется же ему Брить бороду себе, что несогласно С природой дамской… Больше ничего Не выжмешь из рассказа моего".
Должно пройти немало времени, прежде чем пушкинские прозаические начала поразят творческое воображение автора "Анны Карениной", а парадоксы пушкинских концовок будут столь глубоко осознаны в качестве его творческого кредо, что заставят даже одного из наиболее тонко чувствующих Пушкина пушкинистов — Анну Ахматову — считать у него вполне законченным явно неоконченное. А пока — "анекдот".
Выше мы объяснили это ограниченное воззрение современников на пушкинскую повесть отсутствием в ней авторских растолкований и замечательной точностью ее письма. Теперь попробуем объяснить наше объяснение.
Одной из особенностей восприятия Пушкина является постоянное неспокойствие этого восприятия. В разговоре о нем не находится места холодному эпическому описанию; даже под покровом медлительной обстоятельности академических работ всегда скрывается репортаж с места встречи со стихией, рассказ о только что увиденном необычном явлении. О нем — всегда взахлеб, всегда по горячим следам, всегда в погоне за мелькнувшим и поманившим ощущением приближения. Наверное, это потому, что никогда нет возможности обозреть предмет целокупно…
Однажды весьма могущественный император получил донесение, что несколько его подданных "заметили на земле громадное черное тело весьма странной формы. Посередине высота его достигает человеческого роста, тогда как края его очень низкие и широкие. Оно занимает площадь, равную спальне его величества. Первоначально они опасались, что это какое‑то невиданное животное. Однако скоро убедились в противном. Это тело лежало на траве совершенно неподвижно, и они несколько раз обошли его кругом. Подсаживая друг друга, они взобрались на вершину загадочного предмета; вершина оказалась плоской. Топая по телу ногами, они убедились, что оно внутри полое". Составлявшие это донесение лилипуты, конечно, очень хорошо знали, что такое шляпа, да и сами их нашивали. Но столкнувшись со шляпой Гулливера, они не смогли ее узнать, увидеть целиком (не только по малому росту, но и по непривычности подобных громад для глаза и, главное, для рассудка), а потому ограничились взволнованными локальными реляциями: "черное", "вершина плоская", "внутри полое".
В отношениях с Пушкиным самые рослые из нас — лилипутоподобны. С 1814–го, когда напечатана первая строчка, прошло 175 лет и было, кажется, время привыкнуть к принятому здесь масштабу, но привычки нет. И всё, что мы — путешествующие в Пушкине — видим и о чем возвещаем миру, зависит лишь от точки обзора (от того, где и, главное, на чем стоим). Описывается всегда лишь часть и всегда с неподдельной искренностью выдается за картину целого. И нет в том нашей лилипутской вины: ведь открывающаяся глазу часть столь огромна, столь абсолютно совершенна, что и представить невозможно, что видимое в данный момент — это еще не всё. И смешны лилипутские споры, временами доходящие до драки с криками:
— Великий социальный мыслитель!
— Нет уж увольте, — ярчайший сторонник чистого искусства!
— Монархист!
— Декабрист без декабря!
— Вольтерьянец!
— Истинный христианин!
— Критический реалист!
— Ой ли?
Право, решение основного вопроса лилипутской философии— с тупого или острого конца следует бить яйца — имеет больше смысла. В самом деле, в суждениях Пушкина столько социологии, что ею можно сполна наделить всех наших, в 1920–е годы весьма многочисленных, литературоведов "социологического" направления и еще останется. Столько умения восхищаться искусством, что сторонникам лозунга "искусство для искусства" остается только молча завидовать. Столько…
Пока перед глазами читателей "Пиковой дамы" находилась и изобиловала изображенная в повести действительность, ничего, кроме величайшей точности воспроизведения, они и не могли заметить. Общий взгляд был невольно прикован к сопоставлению повести с жизнью, и все любовались шедевром именно с этой точки. Подход с иной стороны не мог прийти в голову, разве могло что‑нибудь еще находиться за таким воспроизведением?
* * *Великий читатель Мишель Монтень оставил нам следующий график убывания смысла при движении книги во времени: "Я вычитал у Тита Ливия сотни таких вещей, которых иной не приметил; Плутарх же — сотни таких, которых не сумел вычитать я, и, при случае, даже такое, чего не имел в виду и сам автор" ("Опыты", кн. 1, гл. XXVI). За полтора тысячелетия, разделяющих Тита Ливия и Монтеня, исчезло нечто, хорошо понятное Плутарху, родившемуся всего через три десятка лет после смерти великого римского историка, — то, о чем не надо было писать, чего не надо было объяснять, что и так было ясно современникам Ливия и безвозвратно, по–видимому, исчезло для потомков. (Впрочем, Монтень, тщательнейшим образом изучивший древнюю историю, смог приблизиться к пониманию классика в сотни раз ближе, чем "иной".) В последующие века декорации сменялись все быстрее и быстрее, и наконец — в девятнадцатом — барьеры непонимания стали вырастать уже между соседними поколениями. Люди 1840–х годов понимали Пушкина по-своему, не так, как люди 1830–х (которые, за редким исключением, его вообще не понимали), а уж у нас его слово и подавно вызывает совсем иные мысли, чем у его современников.
Наше незавидное положение было еще в 1841 году проницательно угадано фельетонистом газеты "Северная пчела", который, напомнив строки "Пиковой дамы", завершающие беседу Томского и Лизаветы Ивановны на балу ("Подошедшие к ним три дамы с вопросами — oubli ou regret? (забвение или сожаление? — Л. И. — Т.) — прервали разговор…"), заключал: "Можете себе представить, как будут ломать себе голову комментаторы Пушкина в двадцатом, двадцать первом и следующих столетиях для объяснения этих трех простых слов в "Пиковой даме": "oubli ou regret?", значение и весьма загадочный смысл которых теперь растолкует всякий танцующий. Это просто любимая фигура в мазурке"[137]. Отвлекшись от довольно оригинальной для своих дней уверенности критика в том, что повесть в последующие столетия непременно станет объектом комментаторских волнений (он не пояснил, собственные ли ее достоинства будут тому причиной или одна лишь принадлежность перу Пушкина), сосредоточимся на нарисованной здесь картине: опадающий под ветром времени смысл.
Чем больше трещин разбегалось с годами по поверхности произведения, чем больше становилось мест, где безвозвратно отколупнулся конкретно–исторический слой смысла, чем меньше узнавала себя смотревшаяся в повесть молодая действительность, тем пренебрежительнее становились публичные оценки (вспомним хотя бы, как "усыхали" достоинства "Пиковой дамы" при последовательном рассмотрении ее Белинским, Чернышевским и Салтыковым–Щедриным). Уходили реалии, уходили типы, исчезли старухи, за которыми в их молодости мог ухаживать любвеобильный Ришелье, иными становились мечты, иные грезились чудеса. Реальность "Пиковой дамы" постепенно переставала быть современной, не становясь еще пока исторической.
Апогей общественного невнимания к повести приходится на 1880–е годы. Именно тогда и произошел курьезный, но показательный (как, впрочем, и большинство курьезов) случай. 22 июля 1885 года подписчики московской газеты "Жизнь" обнаружили в ней "подвал" (или, как тогда говорили, "фельетон"), озаглавленный "Пиковая дама (Повесть)". За заглавием следовал уже упоминавшийся нами эпиграф из, кажется, придуманной Пушкиным, "Новейшей гадательной книги" ("Пиковая дама означает тайную недоброжелательность"), а за ним — пушкинский текст от "Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова…" до "Герман (так! — А. И. — Т.) увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь", — то есть две первые главы. Венчалась публикация не лишенной свежести подписью "Ногтев" и обещанием: "(Продолжение будет)". Обещание, впрочем, исполнено не было, и вместо продолжения набирающей интерес повести на следующий день было помещено "Письмо в редакцию":
"Милостивый государь господин редактор!
Чтобы снять с почтённой редакции газеты "Жизнь" всякое нарекание в каком‑либо недосмотре или небрежном отношении к делу, я покорнейше прошу вас, милостивый государь, напечатать настоящее мое заявление.
Заведуя, в качестве секретаря редакции, получаемыми рукописями и формируя к выпуску газету, я во вчерашнем № 125 "Жизни" допустил напечатание фельетона "Пиковая дама". Вполне доверяя лицу, лично мне известному, и без сведения г. редактора приняв вышеозначенный фельетон, я прямо передал его в набор, никак не предполагая, что под ним кроется плагиат, а затем и допустил его к напечатанию.
Грубая ошибка обнаружена была уже по выходе газеты, и только настоящим письмом считаю возможным разъяснить перед публикою такую исключительную мистификацию.