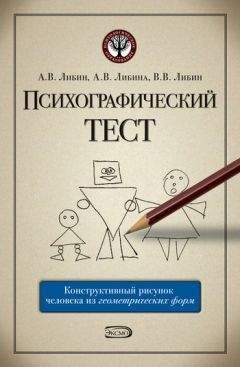Нина Меднис - Венеция в русской литературе
Алогизм Венеции на фоне всех прочих городов мира почувствовали практически все, кто соприкоснулся с ней, и отметили многие из тех, кто о ней писал. Но логика — это то преимущество, порой сомнительное, которое культивирует и ценит человеческое сознание. То, что сознанию не подчинено, выстраивается и живет по другим законам, и это не только не означает антиприродности подобных явлений, но, напротив, указывает на их высшую природу. Кроме того, недостаток живой растительности компенсируется в Венеции множеством растительных элементов в живописи, мозаиках, каменной резьбе зданий, капителях колонн, о чем писал Д. Рескин в книге «The stones of Venice», ставшей своего рода пратекстом для многих произведений европейской и американской венецианы конца XIX — ХХ века.
Представление о природности города в русской литературной венециане поддерживается и чередой сравнений Венеции с птицами: со стаей плывущих лебедей, с колибри или африканской «райской птицей» у В. Розанова. В этом же ряду как особый знак Венеции присутствуют и ее неизменные голуби, которые иногда с точки зрения репрезентативности уравниваются с Пьяццей и сакрализуются:
Ах, не плыть по голубому морю,
Не видать нам Золотого Рога,
Голубей на площади Сан-Марка…
… Может быть, судьбу я переспорю,
Сбудется веселая дорога,
Отплывем весной туда, где жарко
И покормим голубей Сан-Марка…
О птицеподобных гондолах писали практически все авторы мировой венецианы. Прямой повод к аналогии, несомненно, дали острые и приподнятые «птичьи» носы гондол, но устойчивая метафора развеществляла образ, переводя его в разряд одушевленных с такой последовательностью, что даже связанный с гондолами мотив смерти не смог победить заложенное в образе живое начало. Свидетельством этому служит редкая по соположенности противостоящих друг другу признаков поэтическая формула в стихотворении А. Кушнера «Знаешь, лучшая в мире дорога…» — «катафалкоподобные стаи».
Некую промежуточную и в то же время абсолютную по важности позицию занимают многочисленные крылатые львы, которые, не утрачивая символической функции и ярко выраженной сакральности, порой оживают в поэтическом тексте:
И крылатый лев заблещет,
И спросонья, при луне,
Он крылами затрепещет,
Мчась в воздушной вышине.
Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят,
Держит евангелье Марка,
Как серафимы, крылат.
Крылатый лев Сан-Марко с высоты
Кивает нам кудлатой головой…
«Львиным городом» назвал Венецию В. Розанов. «Лев венецианский, поставленный на мачтах, на столбах, колоннах, на каждой безделице вплоть до спичечной коробки, — пишет он, — имеет два полуприподнятые крыла и чуть-чуть опустился на передних лапах, как готовый сейчас прыгнуть. Этот лев в оживлении, а не сидящий, не лежащий» (224).
Итак, обилие одушевленных образов ясно говорит о том, что отсутствие в русском венецианском тексте изображения осенней Венеции отнюдь не является знаком искусственности водного города, которому равно чужды возрождение и увядание. Мир Венеции — живой, и осенняя образность, пусть не в полноте парадигмы, вполне могла бы текстово проявиться. То, что осень с ее специфической освещенностью так слабо представлена в русской венециане, можно объяснить двумя причинами. Во-первых, образность осени утрачивает свою традиционную семантику и даже становится несколько избыточной, когда речь идет о городе, перманентно пребывающем в фазе медленного увядания. Во-вторых, те немногие произведения, где представлена осенняя Венеция, принадлежат советской венециане 50–70-х годов, мало работавшей со светом и цветом.
Зато, в отличие от осенней, очень повезло Венеции зимней, которой перед всеми сезонными красотами отдавал предпочтение И. Бродский. Его венецианские тексты и венецианские фрагменты текстов полны световых деталей и характеристик, возникающих уже на стадии отдаленного предощущения водного города. В автобиографических заметках, названных «Трофейное», И. Бродский пишет: «… девушка, за которой я тогда ухаживал, подарила мне на день рождения книжку-гармошку из открыток с видами Венеции… Из-за того, что плохо отпечатанные открытки были с коричневым налетом, из-за широты, на которой стоит Венеция, и из-за того, что в ней мало деревьев, трудно было определить, какое время года на них изображено. Одежда тоже мало помогала, поскольку люди были одеты в длинные юбки, фетровые шляпы, цилиндры или котелки и темные пиджаки моды начала века. Отсутствие света и общий мрак изображенного подводили к заключению, которое меня устраивало: что это зима, единственное подлинное время года»[96]. Помимо «подлинности» зима в Венеции привлекала И. Бродского своей туристической несезонностью, с которой, как справедливо заметил Л. Лосев, поэт связывал возможность вырваться из плена времени и пространства.
Все это вместе взятое определяет специфику световой парадигмы И. Бродского, включающей в себя два образных ряда. Один связан с искусственными источниками света, где свет опредмечивается, овеществляется, присутствуя лишь в своем рукотворном знаке. Это прежде всего фонари и люстры, часто вводимые И. Бродским в поэтический контекст:
Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий,
отшатывается от вас
и выдыхает пар.
… оставляя нетронутым желтый бесплатный жемчуг
уличных фонарей.
С метафорой люстры, как правило, связана у И. Бродского мысль о затемненном или утраченном свете, о минус-свете, своего рода:
Бронзовый осьминог
люстры в трельяже, заросшем ряской…
Так меркнут люстры в опере…
Сюда же примыкает и образ сдвинутых, как пюпитры, плохо освещенных дворцов.
Фонари и люстры у И. Бродского легко вписываются в панораму рождественской Венеции, замещая традиционные признаки Рождества, или в метафорический мир театра, как в «Венецианских строфах (1)», где оказываются возможны вторичные световые пятна, возникающие в отсылках к «луне в творениях певцов» или к Клоду Лоррену.
Второй образный ряд связан с первичным, природным светом, который у И. Бродского представлен чаще в утреннем и дневном вариантах и деятельно проявляет себя, взаимодействуя с миром и активизируя его. Всякий раз это дается у И. Бродского как встреча света и мира, света и человека:
Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус,
от пощечины булочника матовая щека
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус
в лавке ростовщика.
Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде
школьники на бегу, утренние лучи
перебирают колонны, аркады, пряди
водорослей, кирпичи.
…. Свет разжимает ваш глаз, как раковину…
В этом ряду свет тоже может быть вторичным, но не в плане отсылок к другим текстам, а как отраженный водой и потому удвоенный:
И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней
сильно сверкает, зрачок слезя.
Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня…
Последние примеры важны еще и в том отношении, что указывают на актуализацию в системе световых образов органа восприятия света и цвета. Зрение и глаз в этом качестве особенно значимы для двух художников русской литературной венецианы — И. Бродского и Ю. Буйды. Последний в романе «Ермо» несколько страниц посвящает размышлениям о механизме зрения, характере отражения и т. п.
Специфика восприятия Венеции как места вне времени и пространства[97] и особенности поэтического синтаксиса И. Бродского с максимально ослабленными запретами на сочетаемость абстрактного и конкретного позволяют в игре словами «смотреть», «мысль», «зрачок», «зрение» не только устанавливать, но и снимать барьеры, разделяющие физику и метафизику: