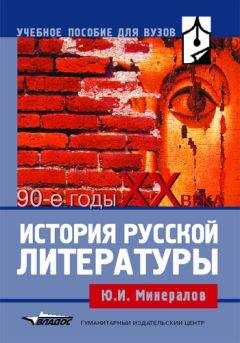Коллектив авторов - История русского романа. Том 1
Но во второй части романа нельзя видеть лишь скорбный отзвук декабристского движения, отражение положения того поколения людей 40–х годов, которое было связано с этим движением, продолжало жить его идеями; в романе сильны тенденции, связывающие его с революционно- демократической идеологией 40–60–х годов. Не только в мировоззрении, но и в своей художественной практике 40–х годов Герцен является живым, связующим звеном между двумя поколениями борцов в истории революционно — освободительного движения России 40–60–х годов.
В романе «Кто виноват?» обрисована история не одного только Бельтова, но развернута такая целостная трагическая ситуация, в которой принципиальное значение имеют и другие, не дворянские персонажи. Правда, эти персонажи во второй части романа в какой‑то мере заслонены Бельтовым, и всё же он не единственное лицо трагедии, — смысл жизни, художественно трактуемый романистом, заключен не только в нем, а во всей концепции романа. Герцен говорит и о том, в чем основная ограниченность Бельтова, этого «прекрасного и способного человека», но человека, в котором он не видел надлежащей нравственной силы, способности быть «практическим человеком». Последнее Герцен понимал, как умение человека «быть своевременным, уместным, взять именно ту сторону среды, в которой возможен труд, и сделать этот труд существенным…».[846] К этому Бельтов не способен. У него появилась острая, «болезненная потребность дела», но в его характере не было «практического смысла» (121). В результате Бельтов оказался способным лишь на «многостороннее бездействие» и «деятельную лень» (122).
На большую высоту поднят в романе доктор — плебей Крупов, великолепно понимающий Бельтова, часто выступающий в качестве его неумолимого, хотя и любящего судьи. И порой автор отдает ему свой голос, когда говорит о Бельтове. Но еще выше стоит Любонька Круциферская. Перед силой и красотой ее преклоняется Бельтов («а я, изумленный необычайной силой ее, я склонялся перед ней. Удивительное существо!»; 202). Перед ней преклоняется и сам Герцен. В ней он угадывает истинные стремления молодого поколения 40–60–х годов, с нею связана убежденность писателя в одаренности и красоте русского человека вообще и русской женщины в особенности.[847]
Всех участников трагедии объединяет одно чувство — желание освободиться от условностей ходячей морали и общественного мнения, противоречащих естественным влечениям прекрасной природы человека. В идеалах Любоньки Круциферской, как и в печально — злых тирадах Бельтова, в мрачном скептицизме доктора Крупова (особенно в повести «Доктор Крупов»), обнаруживается глубочайшее возмущение окружающим обществом, признание всей противоестественности, неразумности человеческих отношений. Характерен разговор Бельтова и Круциферской в NN — ском саду, обнаруживающий связь Герцена с идеями утопического социализма. Разговор этот проникнут тоской о счастливом, свободном человеке, радость и полнота жизни которого расцветают на почве един-
ства, братства со всеми остальными людьми. Но человек забыл, что его душа обладает крыльями, что его взор должен быть устремлен к солнцу, он отгородился от остальных людей, увидел в них врагов своих. Вот почему человек умеет «во всем находить прекрасное, кроме в людях». В свои отношения с людьми человек вносит прозаическую «заднюю мысль», которая отравляет и убивает поэзию жизни. «Человек в человеке всегда видит неприятеля, с которым надобно драться, лукавить…» (171).
Круциферскую в дневнике (во второй части романа) волнуют те же вопросы человеческих отношений. В ее записках также ощущается близость к идеям Сен — Симона и Жорж Санд. Жизнь представляется Любоньке «вихрем»; человек, пишет она, только воображает, что он распоряжается своей судьбой, в действительности же он — «щепка в реке» (181). Эта жалкая судьба человека скучна и обидна. Круциферская вполне соглашается с мнением Бельтова, что «люди сами себе выдумывают терзания» (183). Людские понятия, мнения и толки, обстоятельства жизни представляются героине Герцена странными, перепутанными, унизительными, эти толки возвышают пошлое и эгоистическое и унижают прекрасное. Любонька чувствует себя пленницей всего этого хаоса жизни, ей становится страшно за свои мысли, за свою любовь к Дмитрию и к Бельтову. У Любоньки бывают «минуты какого‑то беспокойного желания жизни еще полнейшей… Я искренно люблю Дмитрия; но иногда душа требует чего‑то другого, чего я не нахожу в нем…, душа ищет силы, отвагу мысли…» (180–181). Очевиден смысл этой душевной тревоги и давящей грусти Круциферской. Беда Круциферских заключалась в том, что они жили исключительно в сфере сердечной жизни, их семейноё счастье не было просветлено любовью к человечеству, интересом к более широким, общественным вопросам. Это особенно характерно для Круциферского, который, по свидетельству Герцена, «удовлетворения более действительным потребностям души… искал в любви» (158). Любонька же отличается от Дмитрия тем, что дремавшие в ней стремления и силы («она тигренок, который еще не знает своей силы», — говорил о Любоньке доктор Крупов; 68) вдруг, при встрече с Бельтовым, обнаружили себя как влечение к жизни более широкой и деятельной. Круциферская поняла, что «самоотверженнейшая любовь — высочайший эгоизм» (186). Ей раскрылась неполнота ее прежнего счастья, она возмужала и почувствовала узость своих идеалов, поняла, что Дмитрий убаюкивал ее «детскими верованиями» в то время, когда она мучилась мыслью, искала у него ответов на тяжелые вопросы и сомнения.
Еще в дневнике 1842–1845 годов и в «Капризах и раздумьях» Герцен высказывал мысли, которые получат художественное воплощение в романе «Кто виноват?». «Зачем женщина, — спрашивает Герцен в дневнике за 1843 год, — вообще не отдается столько живым общим интересам, а ведет жизнь исключительно личную?.. Социализм какую перемену внесет в этом отношении?» (II, 283).
В романе «Кто виноват?» Герцен полемизирует с взглядами славянофилов, утверждавших, что «естественным положением» женщины является ее жизнь в семье, что славянская женщина отличается «целомудренной скромностью», что она должна быть хранительницей одной лишь «чистоты нравов». Герцен, как и Белинский, понимал высокое, облагораживающее значение любви — «поэзии и солнца жизни». Но Герцен считал, что здание счастья нельзя построить на одной любви, что интересы человека шире «жизни сердца». «Мир действительный» имеет не только равные с любовью, но и большие права на внимание человека.
В обзоре русской литературы за 1847 год Белинский отметил наличие в произведениях Жорж Санд идеализации жизни, утопических тенден ций.[848] Эти тенденции решительно преодолевались и осуждались не только Белинским, но и Герценом. При изображении любви и положения женщины у Жорж Санд сказывается стремление подойти к этим вопросам с интимно — сердечной и психологической стороны. У нее сильна идеализация сердечной жизни, но ей не хватает интереса к общественному положению и гражданским обязанностям женщины. Герцен же проявляет исключительное внимание к этим вопросам, показывая органическую связь сердечной жизни женщины с ее общественным положением.
Духовная и семейная драма Круциферской и означала, что Любонька уже не могла удовлетвориться миром сентиментальной семейной идиллии, не могла жить только сердцем, во имя одних лишь семейных интересов. Из этой неудовлетворенности своей жизнью должна была возникнуть потребность гражданской деятельности на благо родины, потребность быть не только любящей женой и матерью, но и гражданкой своей страны. Однако Любонька так и не вышла на эту дорогу, она не избавилась от гнета вопросов и сомнений, не могла их положительно решить. И главным препятствием на этом пути искания новой жизни, новых норм нравственности являются господствующие понятия и обстоятельства. Любонька угадывает, что силой уродливых обстоятельств, грязными толками общества она поставлена в ложное положение по отношению к Бельтову, к мужу, к тому же обществу. Она безуспешно пытается найти выход из этого мучительного положения, стать выше мнения окружающих, оправдать свои отношения с Бельтовым естественным влечением человека к большой любви и дружбе, освященных «братственными», «человечественными» чувствами и стремлениями. Бельтов понимал трагедию положения Круциферской, видел, как высоко Любонька стоит в нравственном отношении, и предчувствовал, что общество ее «затерзает». Он глубоко любил ее, но не мог отдаться своим чувствам, понимая, что это погубит Любоньку. Однако он и не вступает в борьбу с обществом во имя своей любви, предпочитая отказаться и от любви, xî от борьбы.
Трагически мучительно и положение Дмитрия Круциферского. Он не знал духовного мира своей жены, таившихся в ней сил и запросов. Крупов и Бельтов признали, что он не должен был связывать свою судьбу с такой женщиной. И когда настал час испытаний, Дмитрий не вынес их. Высшим принципом в семейной жизни для него является счастье жены. Он готов пойти на любую жертву ради ее счастья. По этому вопросу он высказывает мысли, аналогичные позднейшим признаниям Чернышевского в его саратовских дневниках и в романах. Круциферский решается на «гигантский подвиг» (IV, 190) — быть счастливым счастьем жены, хотя бы она и была счастлива с другим. Но он «изнемог» и «пал под бременем такой ноши» (190).