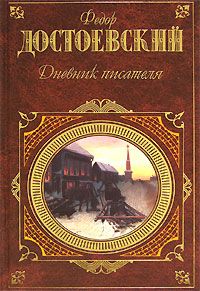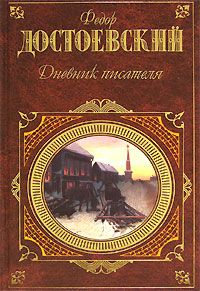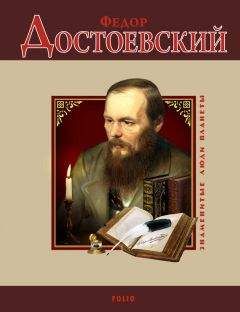Самуил Лурье - Такой способ понимать
Получается, что стихотворение «К N. N.» — двояковыпуклое.
Твои моральные устои расшатаны, но так и быть, продолжим игру, — это одно высказывание. Ты любишь, а я вижу тебя насквозь и ничего не замечаю в тебе хорошего — но так и быть, — совсем другое.
В первом случае «Но так и быть…» — означает, в сущности: будь что будет. Коллизия старая, как мир: движенье персей, младые ланиты затмевают любой категорическим императив Тут уступка соблазну.
Во втором случае роковые эти слова ничем не отличаются от: будь по-твоему. Тут уступка чужой страсти. Надо признать, что это существенный аргумент в пользу восклицательного знака.
В лирике Тютчева наделена силой только женская любовь. Исполнитель мужской роли переживает упомянутое чувство преимущественно в страдательном залоге:
Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе…
Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому еще не удавалось!..
В «денисьевском» цикле дело доходит до зависти, до ревнивой досады: тебе-то есть кого любить, счастливица, у тебя есть я — или тот, кого ты, по простоте сердечной, за меня принимаешь, а я мало того что не умею чувствовать искренно и пламенно — еще и вынужден стыдиться своей тоски, как вины:
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.
Грамматика Тютчева упорно, ценою тончайших ухищрений уклоняется от употребления глагола «любить» в первом лице единственного числа. Этот зарок нарушается крайне редко — и только если дополнением выступает существительное неодушевленное: гроза в начале мая, например.
А в значении «чувствовать сердечную привязанность к лицу противоположного пола» — как формулирует академический словарь — данный глагол словно и не знает первого лица. Ты любишь — сказано не раз (хотя оборот «твоя любовь» встречается еще чаще); множественное число — мы любим, как бы от лица всех смертных — применяется охотно; и однажды приходится воспользоваться вычурной конструкцией — третье лицо в прямой речи второго:
Не говори: меня он, как и прежде, любит…
Все, что угодно, — только бы не сказать никому «люблю». Неизвестно, с кем заключен такой договор. В двух случаях он вроде бы обойден:
Люблю глаза твои, мой друг…
И еще раз, через пятнадцать лет:
Я очи знал, — о, эти очи!
Как я любил их — знает Бог!..
Но нет — в обоих стихотворениях рассказана чужая любовь — изображена с точки зрения объекта: нельзя без слез любоваться взором, обнажающим такую глубину страсти; сильней красоты — вспыхивающий в этих глазах угрюмый, тусклый огнь желанья…[1]
Тютчев помнил, конечно же, что у Пушкина «огонь желанья» подразумевает иное распределение ролей. Тютчев не забывал о Пушкине ни на минуту — и пользовался его стихами так, словно обитал в другой половине мироздания. Как это там, у вас? Душе настало пробужденье? И жизнь, и слезы, и любовь? И нет необходимости уточнять, кто кого любит? И у нас почти точно так же:
Душа, душа, спала и ты…
Но что же вдруг тебя волнует…
……………………………………
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?..
Направление чувства — противоположное. Пушкин любил женщин и не любил весну, — но, правда, надо иметь в виду, что женщины любили его мало, и все не те, и весну он нигде не встречал, кроме России…
А Тютчев ненавидел снеговые равнины, где человек лишь снится сам себе. Что же касается женщин — — —
«…Я хочу, чтобы вы, любящие меня, знали, что никогда ни один человек не любил другого так, как она меня. Я могу сказать, уверившись в этом на опыте, что за одиннадцать лет не было ни одного дня в ее жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня…»
Это пишет Тютчев родителям о первой своей жене.
Им же — о второй — через три года:
«…Не беспокойтесь обо мне, ибо меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо созданных Богом. Это только дань справедливости. Я не буду говорить вам про ее любовь ко мне; даже вы, может статься, нашли бы ее чрезмерной…»
«… Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя…»
Это уже о Е. А. Денисьевой — одному знакомому, еще через четверть века.
Люби́м — следовательно, существую. Быть — значит оставаться в луче влюбленного взгляда («Твой взор, твой страстный взор…», «Твой милый взор, невинной страсти полный…»). Быть — пытка, но ты любишь — и ничто не заставит меня отвернуться.
Любовь женщин заглушала терзавшую Тютчева неусыпно неприязнь к самому себе — настолько тягостную, что нестерпимо хотелось потерять сознание, лишь бы избавиться от чередующихся припадков отчаяния и страха.
«…Только с одним существом на свете, при всем моем желании, я ни разу не расставался, и это существо — я сам… Ах, до чего же наскучил мне и утомил меня этот унылый спутник!..»
«..Я нахожусь в печальной невозможности быть разлученным с самим собой когда бы то ни было. Ах, великий Боже, как охотно перенес бы я эту разлуку!»
«Существование, которое я веду здесь, отличается утомительнейшей беспорядочностью. Единственная побудительная причина и единственная цель, которой оно определяется в течение восемнадцати часов из двадцати четырех, заключается в том, чтобы любою ценою избежать сколько-нибудь продолжительного свидания с самим собою…»
Разрываемый тревогой, Тютчев жил вращаясь и жужжа, словно игрушечный волчок. Больше всего на свете боялся покоя и воли. Цеплялся за любой предлог хоть на минуту отделаться от своего «я».
Судьба его была — бегство: из страны в страну, из семьи в семью, из дома в дом.
Стихи сочинялись чаще всего в дороге, как бы сквозь сон. Тютчев заговаривал ими тоску:
Смотри, как запад разгорелся…
Смотри, как на речном просторе…
Смотри, как облаком живым…
Смотри, как роща зеленеет…
Это стихи о власти зрелищ, о блаженстве расстаться с собою, отказаться от себя.
Душа впадает в забытье,
И чувствует она,
Что вот уносит и ее
Всесильная волна.
Это лирика самоотрицания. Мир ценностей, не известных ни Байрону, ни Пушкину, ни Гейне.
Остается тайной, какими катастрофами этот мир создан.
Каждый найдет в этих стихах себя — но сочинителя не разглядит, а значит — не полюбит.
Автопортрет невидимки.
«Он мне представляется, — пишет Анна Тютчева Дарье Тютчевой, — одним из тех изначальных духов, таких тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей, но у которых нет, однако, и души».
ФОКУС ГАУФА
Вильгельм Гауф родился в ноябре и в ноябре же — ровно через четверть столетия — умер. То и другое с ним случилось в Штутгарте, стоящем на берегах Неккара, каковая речушка и поныне, конечно, протекает себе потихоньку по холмистым равнинам наподобие дрожащей, блескучей биссектрисы между буковым Швабским Альбом и еловым Шварцвальдом. С вершины угла — да со стены почти любого из уцелевших замков! — бывшее королевство Вюртемберг как на ладони: не более чем треть Ленобласти — максимум три Чечни. «Взоры достигают до самой нижней части страны совершенно свободно. Особенно восхитительна картина Вюртемберга при утреннем солнечном освещении. Разноцветные поля напоминают роскошный ковер…» и проч.
Гауф обладал — и то, как видите, недолго — литературным даром вот именно вюртембергского значения. Не всякий обзор немецкой словесности о нем упоминает. Даже и по случаю круглой даты итог бедняге подводят в дробях: дескать, спи спокойно, «кладезь скромных, но полезных изобретений в тени большой литературы»!
И то сказать: какие тузы подвизались на поприще, где он внезапно произрос! Над этой невзрачной травкой — какие шумели дубы! Гауф щеголял в детском платьице — грянул гетевский «Фауст», первая часть. Гауф надел школьную курточку — Германию потряс «Михаэль Кольхаас», новелла Клейста Гауф завернулся в черный плащ тюбингенского студента теологии — Э. Т. А. Гофман сводил с ума тогдашних умников — «Крошка Цахес» да «Повелитель блох». Гауф облекся в сюртук домашнего учителя — просвещенные немцы смаковали последний роман Жан Поля и «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Вот уже Гауф и сам — удачливый сочинитель, на нем нарядный фрак, — а что у него в руке? не последняя ли новинка? так точно: «Книга песен» Генриха Гейне, только что из типографии, представьте себе…