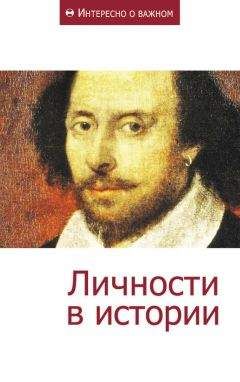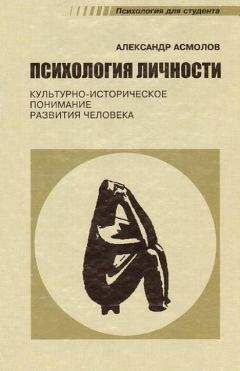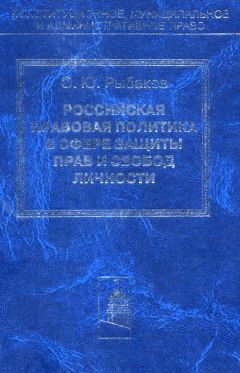Владимир Кантор - В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: опыт русской классики
Интересно, что в словаре Владимира Даля слово «крепость» в значении «укреплённое противу врагов место, твердыня» занимает пятое (!) место, первым же объявляется значение принадлежности, состоянья, то есть крепостного подчинения. В народе крепостью называли тюрьму, а крепостное право строилось фактически на основе полного бесправия. Слово «крепость» в русской культуре получило значение не защиты, а порабощения человека. Причём закрепощение происходило стихийно, юридически не оформляясь. Земля была государева. Сначала можно было мужику переходить с места на место. Затем, чтобы земля обрабатывалась в нужных государству местах, переход был запрещён: вот огрублённый смысл появления крепостных. Потеря личной независимости произошла как бы сама собой. Когда в период великих реформ прошлого века стали искать юридический акт, объявлявший значительную часть народа бесправной, такого акта не нашли. Как, впрочем, не было и юридических обоснований, позволивших миллионы людей загнать в сталинские концлагеря. Сталинская тирания утверждалась постепенно, стихийно, как результат совместного творчества: масс и власти. Масс, которые не сопротивлялись, и власти, которая почувствовала, говоря лагерным языком, возможность «беспредела».
Ключевский как-то заметил, что русская история склонна к повторам. Я бы говорил не о повторах, а о рифмовке через столетия основных понятий, выработанных историей. Сегодняшние проблемы родились не сегодня, но у сегодняшних и вчерашних проблем — один корень. Как известно, Сталин любил Ивана Грозного. А сходство сталинских расправ и расправ Грозного — огромное. (В скобках напомню, что Нечаев действовал от имени «Народной расправы» — как выразительно употребление слов!). Приведу как пример эпизод новгородского погрома (опять сходство, но как же иначе, если слово точно обозначает действие и никогда не лжёт!) — в изображении С. М. Соловьёва. К Ивану Грозному приводили новгородцев, пытали, жгли их какою-то «составною мудростию огненной», которую летописец называет «поджаром»; обвинённых привязывали к саням, волокли к Волховскому мосту и оттуда бросали в реку; жён и детей их бросали туда же с высокого места, связавши им руки и ноги, младенцев, привязавши к матерям; чтобы никто не мог спастись, дети боярские и стрельцы ездили на маленьких лодках по Волхову с рогатинами, копьями, баграми, кололи рогатинами и копьями и погружали в глубину; так делалось каждый день в продолжение пяти недель. По окончании суда и расправы Иоанн начал ездить около Новгорода по монастырям и там приказывал грабить кельи, служебные дома, жечь в житницах и на скирдах хлеб, бить скот; приехавши из монастырей, велел по всему Новгороду грабить по торговым рядам и улицам товары, амбары и лавки «рассекать и до основания рассыпать»; потом начал ездить по посадам, велел грабить все дома, всех жителей без исключения, дворы и хоромы ломать, окна и ворота высекать. Весь этот разгром продолжался шесть недель.
И ещё удивляются, почему мы так быстро привыкли к сталинским бессудным расправам, привыкли, что двери наших жилищ открываются вовнутрь, словно для удобства тех, кто ломится к нам снаружи! Разве не напоминает расправа над новгородцами расправу над крестьянами в годы коллективизации, когда уничтожали столь же беспощадно миллионы людей и их достояние?! Да и причина новгородского погрома многое может напомнить: донос, что новгородцы хотят «отложиться» к польскому королю. Тоже изменники, шпионы в пользу кого угодно!.. Когда-то вольная новгородская республика, попав под власть московского князя, перестала распоряжаться своей судьбой. А причина, быть может, в том, что ещё дед Ивана Грозного Иван III, завоевав Новгород, отказался подписывать с ним договор, который как-либо ограничивал власть московского князя.
Мы традиционно пренебрегаем договорами, условиями, определяющими наши отношения с государством, упрекая Запад за формализацию общественной жизни. Но корни этого пренебрежения — в привычке к политическому бесправию. Существует точка зрения, что отсутствие правовых отношений народа и государя в Московской Руси объясняется вотчинным типом отношений, напоминающим отношение отца к своим детям в большом семействе. Но разве не больше это похоже на позицию завоевателя в покорённом племени?
Герцен полагал, что русское самодержавие сформировалось под сенью ханской власти татаро-монгольских завоевателей. И в этом есть резон, если мы вспомним о более чем двухвековом иге, о том, что ярлык на великое княжение московские князья получали в Золотой Орде. Можно сказать, что Московская Русь в борьбе с монгольскими завоевателями невольно усвоила принцип единодержавного, беспрекословного правления, характерного для войска, для военного лагеря. Но на каком экономическом принципе основывалось это единодержавие?
Русские князья усвоили принцип «монгольского права»{7}, по которому вся земля, находившаяся в пределах владычества хана, была его собственностью. Никто из живших и работавших на земле не мог считать, что ему принадлежит земля, поэтому их дом на этой земле не был крепостью для его хозяина. Князь мог до основания разрушить этот дом, поставленный на его земле и: прогнать прочь земледельца. Известная независимость Новгорода, до которого не дотянулись монголы, была уничтожена московскими князьями — на основе монгольского права. Кстати, и поместья, которые получали дворяне, не были поначалу их собственностью. Они были жалованьем за службу. Дворянин владел поместьем, пока служил. Потом оно могло быть передано другому. Думается, и коллективизацию легко было провести, потому что земля не принадлежала обрабатывавшему её крестьянину. Налетали вооружённые «представители центра», как отряд монгольских баскаков, собиравших дань, и никто не мог им противиться.
Крепостное право, пережитки которого сохранялись и в XX веке, было вроде бы опровергнуто «революционным правом» правом мужицкого топора. Тварь ли я дрожащая или право имею? — спрашивал Раскольников. Право на что? На кровь. Во имя революции это право получили миллионы. Большевики хотели опереться на стихийное политическое творчество народных масс. В «окаянные дни» И. А. Бунин вспоминал, что А. К. Толстой всю жизнь сокрушался о прекрасной Киевской Руси (имевшей свой свод законов, Русскую Правду), погубленной монголами. В расстрельщиках из солдат и матросов Бунин увидел проснувшееся варварство («воровское шатание», столь излюбленное Русью с незапамятных времён»), стихию всеразрушающего татаро-монгольского нашествия: «город чувствует себя завоёванным». Взгляд великого писателя точен, ибо правового сознания у народа за века рабства выработаться не могло. Вначале татары, затем помещики, бесправие, названное крепостным правом, где крепость не защита, а место заключения: из крепости не убежишь. Славянофил Ю. Ф. Самарин, один из умнейших людей прошлого века, замечал, что «народ покоряется помещичьей власти как тяжкой необходимости, как насилию, как некогда покорялась Россия владычеству Монголов, в чаянии будущего избавления»{8}. Опора на неправовое сознание народа позволила придать бессудным расправам видимость законных действий. Сработала вековая привычка, что государство — полный хозяин твоей жизни и смерти, привычка народа к тому, что его мучают, грабят, убивают все, кому не лень, в том числе и «свои».
Чтобы остановить анархию и разбой вольницы гражданской войны, возникла нужда в «твёрдой руке». Но и сама вольница — оборотная сторона бесправия. Не случайно, у неё общий корень со словом «произвол»: Бунин проводил параллель между «красным террором» и разинской вольницей. Этот произвол усвоила и диктаторская власть Сталина. Советы, рождённые творчеством масс, но не подкреплённые «буржуазным» правом, правом личности, подпали под власть тоталитарной структуры, стали её элементом. Свобода, в отличие от вольницы, имеет ограничительный характер, меру, предел. Моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Ибо человек есть крепость, которую нельзя тронуть. Эта крепость должна быть несокрушима. Такова была проблема, поставленная русской историей перед русской литературой.
I. БЕСХОЗ ИЛИ НАСЛЕДСТВО?
В первый же год (1963) моего обучения на филологическом факультете МГУ одна очень милая барышня, на которую я неравнодушно поглядывал, спросила как-то: «Неужели ты собираешься заниматься XIX веком? Там же всё совершенно известно». Смысл этого речения был: по проторенной тропочке идёшь, а я о тебе лучше думала.
И вправду, все (или почти все) имена писателей, философов, историков XIX века упоминались в наших университетских учебниках. Во всяком случае — основные, так нам казалось (заниматься же второстепенными — скучно, себя не уважать). На каждом имени была табличка, номерной знак, клишированная надпись. XIX век во всех статьях и книгах привычно называли классикой, классиков же трактовали, как недоучившихся студентов: этот недопонял, а тот и вовсе не понял, зато некто очень даже приблизился. Словом, культура была похоронена по первому разряду, целую эпоху загнали на кладбище. Так и шло в нашей студенческой жизни. С Достоевским было лучше не связываться из конъюнктурных соображений. С Чернышевским — неприлично, перед свободомыслями стыдно. А имена Каткова, Кавелина, Эдельсона и других, о которых мне впоследствии казалось интересным писать, вообще не обсуждались как возможные темы для размышлений.