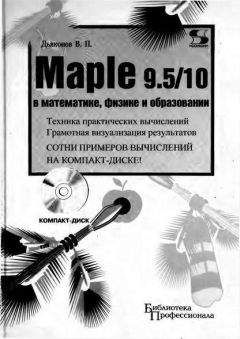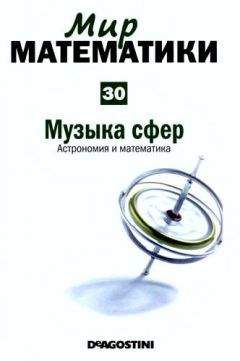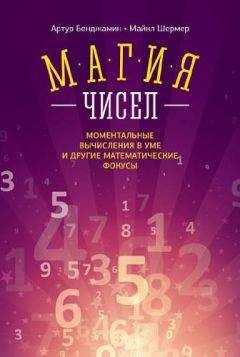Юрий Тынянов - Поэтика. История литературы. Кино.
Мне представляется характерным разговор, о котором она вспоминает, подкрепляя свое убедительное рассуждение: "- Виктор — механик… Он верит в конструкцию, — говорит Тынянов о своем близком друге В. Б. Шкловском. — Он думает, что знает, как сделан автомобиль… А я, я — детерминист. Я чувствую, что жизнь переплескивается через меня. Я чувствую, как меня делает история"[5].
"Обособляя литературное произведение, исследователь вовсе не ставит его вне исторических проекций, он только подходит к нему с дурным, несовершенным историческим аппаратом современника чужой эпохи" ("Литературный факт"). Эта мысль, перебрасывающая мост между настоящим и прошлым, характерна в равной мере и для научных трудов Тынянова, и для его художественных произведений. Так в теорию замкнутого литературного ряда врывается историзм, органическое свойство таланта Тынянова, окрасившее все, что он сделал в науке и в художественной прозе.
Стремление понять, из каких слагаемых составляется сложный смысл художественного произведения, как исторически изменяются способы порождения этого смысла, как воспринимается он современниками и потомками — людьми, живущими в разные литературные эпохи и по-разному прочитывающими одни и те же тексты, — все это отличительные черты научного мышления Тынянова. И в изучении отдельно взятого произведения, и в подходе к истории литературы они определили своеобразие Тынянова внутри формальной школы. Особенно важной в этом отношении была книга "Проблема стихотворного языка" — недаром сам автор считал ее наиболее характерной своей работой (см. об этом в комментарии, стр. 502). Но не только эта замечательная книга приходит на ум, когда задумываешься об оригинальном вкладе Тынянова в деятельность Опояза и шире в общетеоретический багаж богатой яркими концепциями науки 20-х годов. Решительно утверждая художественную специфику литературы, Тынянов увидел вслед за этим необходимость поставить вопрос о ее соотношении с другими социально-культурными явлениями (подробнее об этом в комментарии, стр. 525–526). "Построение… замкнутого литературного ряда и рассмотрение эволюции внутри него наталкивается на соседние, бытовые в широком смысле, социальные ряды", — писал он. Методологические трудности движения к этим рядам, вовлечения их в научный анализ он попытался разрешить в статьях "Литературный факт" и "О литературной эволюции", призвав на помощь нелегкую, необычную, но будящую теоретическую мысль терминологию. Понятия «система», "функция" (см. о них в комментарии, стр. 520 и далее) были для него опорными при построении концепции литературной эволюции. Ее нельзя считать полностью разработанной, завершенной, но без учета этих положений Тынянова, без анализа его терминологического аппарата невозможна объективная оценка его деятельности. Тыняновское понимание стихотворного ритма и смысла, как целый ряд других его идей в области теории и истории поэтических жанров и поэтического языка, определили его положение не только в эволюции Опояза, но и в истории советской филологической науки. В своих работах Тынянов стремился обновить границы поэтики, вывести ее за пределы слишком широких культурно-исторических построений, не растворяя их в лингвистике.
Однако, если говорить о научном наследии Тынянова в целом, идеологические и социальные факторы, воздействующие на искусство, недостаточно учитывались им в конкретном анализе. Отдельные положения его работ конца 1920-х годов о необходимости рассмотрения социальных аспектов литературных явлений носят в значительной мере декларативный характер. В 1920-х годах еще не был выработан комплексный подход к литературе, и тогдашние научные направления выдвигали какую-либо одну ее сторону. Именно поэтому следует оценивать научное наследие Тынянова в свете развития взглядов ученого, эволюции всей формальной школы и поисков представителей других научных направлений. Напомним о попытках соединения принципов социологической и формальной школ (Б. И. Арватов) или о «синтетических» схемах П. Н. Сакулина. Примерно тогда же обратили на себя внимание работы Г. А. Гуковского, в позднейших талантливых и глубоких исследованиях которого стиль писателя рассматривается в неразрывной связи с мировоззрением — как художественная его реализация. Особое место принадлежит M. M. Бахтину, чьи оригинальные работы основывались на глубокой лингво-эстетической концепции, с точки зрения которой он подверг формализм острой критике. Несмотря на несхожесть, все эти поиски так или иначе способствовали преодолению односторонности в подходе к литературе, будь то односторонность формалистическая или вульгарно-социологическая. Они уясняли возможности целостного анализа произведения, стиля, творчества писателя, литературной школы. Тынянов, в 20-е годы естественно воспринимавшийся как видный деятель Опояза, сегодняшней науке видится в значительно более широком ряду советских ученых, чьи напряженные труды полвека назад легли в основание новейшей эстетики и науки о литературе.
В 1924 г. на страницах журнала "Печать и революция" шла дискуссия о формальном методе. В полемику со статьей Б. М. Эйхенбаума "Вокруг вопроса о формалистах" вступили А. В. Луначарский, П. С. Коган, В. Полянский, П. Н. Сакулин. Марксистская критика требовала "точного установления социального места формализма" (Луначарский), она решительно возражала против автономности историко-литературных проблем, их отделенности от истории общества, их рассмотрения вне социальных противоречий эпохи.
Формализм, как давно установило современное литературоведение, не был явлением монолитным. Б. М. Эйхенбаум, В. Б. Шкловский, Б. В. Томашевский, В. М. Жирмунский шли собственными путями в науке. В. Шкловский, который энергично защищал ранние доктрины Опояза, впоследствии от них отказался. В 1927 г. он заявил на публичном диспуте, что "работа последних лет убедила его, что прежняя формула об автономном литературном ряде, развивающемся вне пересечений с бытовыми явлениями, что эта формула, бывшая всегда только рабочей гипотезой, — сейчас должна быть осложнена"[6]. Через три года он прямо заявил: "Для меня формализм — пройденный путь"[7]. В недавней книге, цитируя старое свое определение — "Литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь, не материал, а отношение материалов", — Шкловский пишет: "Отказываясь от эмоций в искусстве или от идеологии в искусстве, мы отказываемся и от познания формы, от цели познания и от пути переживания к ощущению мира"[8].
Взаимоотношения Тынянова и Шкловского — существенная часть "внутренней жизни" Опояза. Личный, научный, литературный аспекты здесь тесно связаны. Соглашаясь в основном, ученые, однако, не всегда придерживались единой точки зрения. Были и расхождения, и споры, а споры между друзьями подчас не менее остры, чем с противниками. Временами столкновения становились болезненными, но оставалась неизменной человеческая близость, та теплота дружеского участия, которая всегда была дорога Тынянову и так важна в последние годы, когда он был безнадежно болен. Не зная этих обстоятельств, невозможно, я убежден, представить во всей полноте картину и научных взаимоотношений Шкловского и Тынянова. Казалось естественным дать в книге нужные сведения.
Такую необходимую по отношению к современному читателю задачу выполняют, на мой взгляд, комментарии к предисловию к "Архаистам и новаторам".
Научная мысль Тынянова не останавливалась в течение двух с половиной десятилетий его неустанной работы. Труды, составившие этот том, наглядно показывают эволюцию взглядов ученого. В разработанных совместно с Р. О. Якобсоном (в 1928 г.) тезисах "Проблемы изучения литературы и языка", а также в большой статье "О пародии" (1929), сохранившейся в архиве Тынянова, очевидно все большее расширение научного его горизонта. Принципы, сформулированные в этих работах, глубоко отличаются от ранней опоязовской установки на имманентное рассмотрение литературных произведений.
Широкая известность Тынянова была основана не только на его научных работах. Он мечтал написать трилогию Кюхельбекер — Грибоедов — Пушкин и, без сомнения, осуществил бы этот грандиозный замысел, если б работа не была прервана его болезнью и безвременной кончиной. Но и то, что было сделано (романы «Кюхля», "Смерть Вазир-Мухтара" и «Пушкин», рассказы "Подпоручик Киже", "Малолетный Витушишников", "Восковая персона" и др.), дает все основания считать его одним из немногих основателей советской исторической прозы.
В этом кратком предисловии, посвященном его научным изысканиям, я не могу анализировать художественные произведения Тынянова. Скажу только, что он не стал бы романистом, если бы не был глубоким знатоком русской литературы, мастером исторического изучения, умевшим сопоставлять бесконечно далекие факты и делать выводы, блистательно опровергавшие готовые представления. "…Нужна упорная работа мысли, вера в нее, научная по материалу работа — пусть даже неприемлемая для науки, — чтобы возникали в литературе новые явления. Совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства. Только то, что в науке имеет самодовлеющую ценность, то оказывается в искусстве резервуаром его энергии"[9], - писал он о Хлебникове.