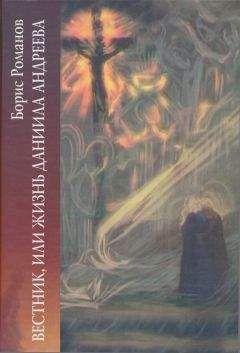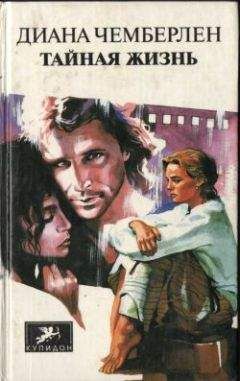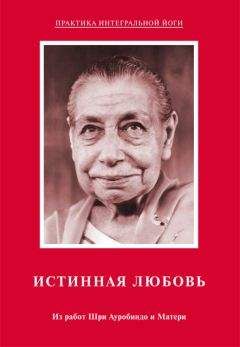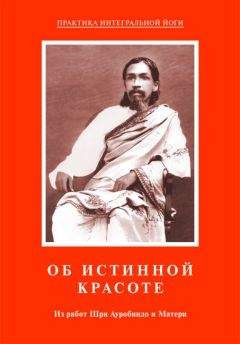Владимир Гусев - Искусство прозы
Художественное творчество отражает или стремится отразить этот фактор во человечестве. Различаем то и другое, ибо так или иначе отражает оно и независимо от желаний авторов, а стремится отразить то удачно, то неудачно: как бывает и во всяком деле, где есть сознательность и тенденция. Сейчас мы то и другое увидим на примере сказовой интонации. Интонация в творчестве — нечто еще более неуловимое, чем сам живой ритм. Именно в нем вся суть, а он наименее уловим рассудочно; а интонация — это, так сказать, неуловимое в неуловимом, это тот первичный «стык» внешнего и внутреннего, от которого все происходит и в самом ритме, который все время явственно ощутим, но как целостность невычленим. Все учебные определения художественной интонации остаются в силе, и можно ознакомиться с ними по разным пособиям, хотя любопытно и то, что литературоведы-аналитики в общем интуитивно избегают углубляться в вопрос, называемый «поэтическая (художественная) интонация». Извечно храбрые, уверенные в себе структуралисты различных школ проштудировали все ее «элементы», но так и не решились дать цельное определение. Кажется, «Мелодика русского лирического стиха» и «Как сделана „Шинель“ Гоголя» Б.Эйхенбаума остаются первыми и последними попытками этого рода о стихе и о прозе, и сама давность этих попыток и отсутствие мощных и цельных их подтверждений или опровержений в последующем говорят сами за себя. При этом еще надо учесть серьезные толки о том, что мелодика и интонация — разные вещи, что сказовость — это не только интонация и в то же время сугубо частный случай самой интонации; что интонировка, по сути, является фактором, далеко выходящим за пределы самой интонации.
Как бы то ни было, сказ — да, это не только интонация, но это и интонация как таковая. Одна из немногих типологий в сфере интонации. Происходит так потому, что за интонацией, как за одной восьмой айсберга, мощно, резко символически просматриваются те семь восьмых. Мы вообще часто путаем состав и символический слой понятия. «Как это, сюжет — форма? — говорим мы. — Ведь сюжет — это и содержание» и пр. «Все верно», кроме того, что «сюжет» и все прочее подобное — это не «и» содержание, а символ содержания; за ним просматривается содержание, т. е. чисто духовные факторы; он несет, выражает в себе духовность (иначе не скажешь!), но сам не является «и» ею. Он не «и», а он — поверхность, верхний слой, выражающий некую суть. А путая то и другое и вводя эти знаменитые «и», мы совершаем заново главный просчет формалистов, а вслед за ними и Бахтина (который спорил с ними, но спор есть, да, форма зависимости!), уравнявших факторы, на деле имеющие иерархическую структуру. Есть глубина (высота) и поверхность (нижний слой), суть и выражение, дух (собственно дух) и его эмпирия, «материал». На забвении этого, то бессознательном, то сознательном, проиграл все свои главные игры уходящий XX-й век; а человечество и особенно наша страна слишком тяжко расплатились за это, но еще так и не все поняли в этих итогах. Разумеется, помним обо всех «передаточных звеньях», которые сейчас опустили; и все же академическая «проблема формы в искусстве» (и все прочие такие проблемы) — в сути того же порядка, что и глобальное, трагедийное. Тут можно вспомнить о капле и море, об атоме и Вселенной, подобных по своему строению, о микро- и макрокосме и прочем. Но, во-первых, соотношения тут все же запутанней — они не столь стройны, как кристаллические структуры, здесь смешиваются разные линии, плоскости и т. п.; а во-вторых — заново и заново — не будем входить в банальности, ибо же банальность всегда упрощает, а век и так уж погибает на упрощениях. В 1909 году Блок предупреждал, что век погибнет на популяризациях, и вот — он прав. Добавлю, что и слово «банальность» непросто; когда Т.Манн говорит, что гений замешен на банальности, он имеет в виду все первичное, именно глубинное в мире. Мы же говорим о банальности в принятом значении этого слова; это линейность, стертость идей.
Итак, интонация объемна, генерально целостна не сама по себе; просто за ней с очевидностью стоит весь объем искусства, а за ним — весь объем духа.
И сказ как интонация отражает это состояние — состояние духа… Сказ был фольклорным жанром, и никто и не обращал на него внимания. Происходило это оттого, что в фольклорном сказе нет никаких современных проблем раздвоения. Он идет от своего «низового рассказика», только и всего. По сказам в обработке Бажова, задним числом вошедшим в высокую литературу уже на фоне Лескова, мы легко видим это. Прецедент же начинается с самого Лескова. «Левша», как мы понимаем, это не просто сказ, это — введение сказа в традицию большой профессиональной литературы. Сразу начинают работать все связи. Вроде легко сказать: «сказ» — дать подзаголовок. Но это все равно, что войти армейскому вахмистру в великосветскую залу, где блещет мазурка, и как ни в чем не бывало пригласить на танец графиню Шофинг. Вроде бы он сделал то, что тут все кругом делают, но сразу создалось раздвоение, возникла новая ситуация. «Сказ» — это после Пушкина, Лермонтова, Толстого; ну, правда, тут же вспомнили, что и у Гоголя был сказ, как в том случае кто-нибудь из угла непременно ехидно бы вспомнил, что и графы Разумовские были снизу; совсем осведомленный сказал бы, что и у Вельтмана, и у Даля был сказ; и все же.
Кто это ведет повествование — в этом «Левше»? Сам «низовой рассказчик»? Да нет. Мы чувствуем утрировку; мы ощущаем за сценой Автора. «Когда император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели…» Этим отличается сказ литературный от сказа простого. Автор не может не знать, что кругом — высокая традиция, эта зала; и сознательно сгущает свой материал. Мы чувствуем этот его прием, принимаем правила игры и с самого начала помним о его существовании, этого Автора. Его знаменитые инверсии (вывод глагола далеко от его «литературного» места, в конец синтагмы), его умопомрачительные «народные этимологии» («бюстры»: за одним этим словом — картина всего великосветского вестибюля! Люстры, статуи и ковры на лестницах!), его демонстративная устностъ речи (интонация, иначе не скажешь!) — все это внутренне учтено читателем: ибо густо и явно, закон заметен; да, мы чувствуем, что это «придумано» Автором. Но и рассказчик пред нами: как таковой. Он не назван, но вот он, тут. Формально повествование идет от Автора, и мы, как видим, в это и верим; но интонационно-лексическое решение с первых же слов, конечно, уж независимо от и нас самих, создает и второй образ — образ этого самого «низового рассказчика», рассказчика из народа. Инверсии, бюстры и все прочее «придуманы» автором, от коего идет речь, но непосредственно-то принадлежат ему, такому рассказчику. Это не требует доказательств.
Так в русской литературе возникает раздвоение, которое не сводится к прямому противостоянию Болконского и Каратаева как образов, а идет глубже. «Личность и народ» — вот наша проблема: нашей литературы. (Не личность и общество, а именно личность и народ). И вот, проблема эта уходит и вглубь интонации.
Эти поняли чуткие люди в XX веке.
Стремясь выразить гул времен, Андрей Белый в своем «Петербурге» стремится использовать лесковскую интонацию на материале интеллекта, рассудка, иной фактуры. Он ощущает «низовое» и «устное» (т. е. широкое, «уличное») как императив эпохи, а применяет его к иному… Возникает сложная стилевая ситуация. «И поздненько же ангел Пери изволил открыть из подушек невинные глазки; но глазки слипались; изволил он долго еще пребывать в дремоте; под кудрями роились невнятности, беспокойства, полунамеки…»
Наша литература 10-20-х годов напряженно впитывает интонацинно-стилевой опыт Лескова через Андрея Белого (!); сам Белый собранно анализирует сказ и все прочее в работах с 1910 по 1934 годы. Раз двоение становится фактором стиля и подсознания, и самосознания в нашей литературе.
В дальнейшем наш сказ через голову Андрея Белого заново обратился и просто к литературным первоисточникам: Лескову и Гоголю. А то и к фольклору. Идут сказ «литературный» (Пильняк, Артем Веселый, Тынянов и многие другие), «бёловский», и сказ литературно-народный: Шишков, ранний Шолохов, затем Шукшин, Белов и иные. Формы сказа использует и Солженицин еще в «Одном дне». Если позволительно так каламбурить, то это сказ не беловский, а беловский. Возникают и слитные «городские-низовые» формы, как у Андрея Платонова, в ином смысле у Зощенко и иных. Впрочем, и сам Лесков, как известно, не претендовал на разделение в своем стиле деревни и города как низов.
Одновременно в русской литературе всегда был силен порыв к высокой авторской интонации — к личностному, авторскому стилю, стилистике. Тут дело не в дворянстве, а в том стремлении к тайной гармонии, высоте личности, которые в русской литературе были первичны. Раздвоение все же извечно воспринимается у нас как беда, а не как достижение. Высокая гармония личности светит как идеал. Здесь секрет сожженного тома у Гоголя. Он — И он! — хотел того, но не вышло. Здесь-то «и» уместно: Гоголь — это русская литература, и сам знает это. Что Пушкину — гармония Авторской интонации! — давалось само собой, Гоголю виделось как недостижимое — и «достигнуто» им не было: у него была другая планида. Вот Достоевский умел и этак и так (Макар Девушкин и Иван Карамазов), но закончил тоже речью о Пушкине как недостижимом идеале.