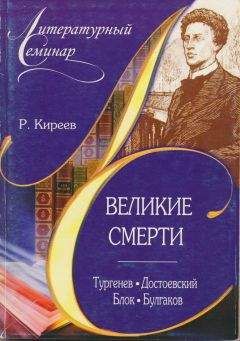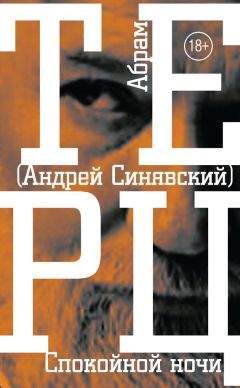Андрей Синявский - Прогулки с Пушкиным
Заручившись такою роднёй, он мог уже смело сказать себе: «Ты царь: живи один…» От негра шёл путь в самодержцы. Долго мучившую его, жизненную проблему «поэт и царь» Пушкин разрешил уравнением: поэт — царь.
Царствование Пушкина протекало под знаком Петра, который, как известно, многими чертами характера — разносторонностью интересов и замыслов, дерзостью нововведений, благожелательностью, простодушием — отвечал идеалам и личным свойствам поэта. Тот царственным кивком головы снаряжал стихи, как флотилии, выстраивал их в потешное войско («Из мелкой сволочи вербую рать») и т. д. Аналогии с Петром диктовались масштабами реформации, предпринятой Пушкиным в русской словесности вдогонку петровским декретам.
«Только революционная голова, подобная Мирабо и Петру, — заверял клятвенно Пушкин, — может любить Россию, так, как писатель только может любить её язык.
Всё должно творить в этой России и в этом русском языке».
Мысль о взаимозависимости и сходстве Петра и Пушкина уже тогда зарождалась в умах ценителей первого поэта России. Баратынский писал ему (декабрь 1825 г.): «Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвёл Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление».
Всё это, конечно, он принимал к сведению. Но не только историко-культурные сравнения и запросы влекли его к Петру как к высокому родственнику, к своему божеству-двойнику, а более протяжная, внутренняя тоска. Пушкин обнаружил и обнародовал в нём то, что не нашёл в Наполеоне, — выражение своей личной и сверхличной силы, пример и образ Поэта в его независимости от чьих бы то ни было законов и уложений. Дикий гений, самодержавная воля Петра, построившего сказочный город на голом болоте, захватили его, и хоть он не собирался отождествлять себя со своими героями, а творил, что называется, объективно, с соблюдением различных колоритов места и времени, слишком близкие параллелизмы напрашивались сами собою. Это ощутил Пастернак, написавший гениально о Пушкине:
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн…
В этом смысле и «Медный Всадник» и «Полтава», помимо очевидных событий, содержат тему Царя в истолковании, приближённом к судьбе поэта. «…В моей изменчивой судьбе», — помечал он в посвящении к «Полтаве» и ставил эту изменчивость в широкую связь с испытаниями, выпавшими России, Петру, «в пременах жребия земного», тяжких и благодетельных, что их воспитали и вскинули на гребень великой волны, тогда как самонадеянный Карл, идя путём всех пушкинских антиподов, пытался распоряжаться судьбой по собственному капризу и на этом, как всегда, потерял («Как полк, вертеться он судьбу принудить хочет барабаном»). Когда волны истории всё смыли и заровняли, на земле остался один, — нет, двое в одном лице — Поэт и Царь.
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.
Слышите?
Я памятник себе воздвиг нерукотворный…
Памятник Царю становится героем «Медного Всадника». Многочисленные его толкователи почему-то слабо учитывали, что эта повесть написана на очень личном, психологическом конфликте, что Петр и Евгений так же соотносятся в ней, как Поэт и человек в стихотворении «Пока не требует поэта…», что Петербург и стихия, его захлестывающая, не противники, а союзники, две стороны одной идеи, именуемой Искусством, Поэзией, противостоящей человеку, который боится и ненавидит её в своём суетливом ничтожестве.
Замечено: Евгений, верхом на льве, со взглядом, вперенным вдаль, в близкую даль своего личного счастья («И размечтался, как поэт»), размытого затем наводнением, перефразирует контур памятника Петру. Но все его позы, движения обратны Памятнику, и на длань, устремленную ввысь, на чудотворную пушкинскую десницу, вызывающую бурю и усмиряющую её, превратившую природный хаос в гармонический космос Города, Евгений откликается эгоцентрическими всплесками рук, судорожно вьющихся вокруг его утлого тела. Это — жалкое и трогательное в жажде счастья человеческое естество, возомнившее в ослеплении, что Всадник его преследует (некоторые поверили и негодуют на Всадника — такой большой гоняется за таким маленьким!): всё бы ему за ним да к нему, да ради него, недоумка, случайно попавшего в оборот Поэзии, подвернувшегося ей под руку.
Евгений! Какое значительное у Пушкина имя, варьирующее один и тот же примерно сюжет человека, глухого к поэзии, далёкого от неё, но всё-таки чем-то родного и приятного автору. Евгений… Ба! уж не есть ли это светское, мирское имя того, кто в духовном своём сане известен как Александр Пушкин?! Известны его пародийные мысли, близкие Евгению с его маленьким счастьем на общих путях («Мой идеал теперь — хозяйка, мои желания — покой да щей горшок, да сам большой»), давшие повод судачить о солидарности Пушкина с горшечными мечтами Евгения и его же, авторской, неприязни к Памятнику, побившему все горшки. Тем более тот именуется в поэме не иначе, как кумир, или ещё хуже — истукан. Дескать, идол бесчувственный, Ваал государства… Но причём здесь Ваал? Совсем другой идол. И вообще «кумир» для Пушкина не такое уж бранное слово. Во всяком случае в споре «горшка» с «кумиром» его выбор не вызывает сомнений. Поэт черни:
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нём не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нём себе варишь.
Вся беда в том, что мы не верим в Аполлона. Почитаем его выдумкой, поэтическим иносказанием. Но Пушкину Аполлон не пустой звук, а живой бог, чьи призывы он слышал, чей лик запечатлел.
…Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.
Какое необычное, непонятное уму сочетание: ужасен — прекрасен! И как догадался Пушкин, что это так и есть, что прекрасное ужасает, что смешение восторга и ужаса возбуждает Дельфийский владыка, в чьём облике нам мелькает нечаянно что-то африканское, дикое и в то же время высокое — разящее, громоносное, ослепляющее солнцем лицо?! В полном объёме сам Царь — Аполлон — Ганнибал — Поэт.
Среди мраморов в Царском Селе, поразивших воображение мальчика, выделялись два истукана; им-то Пушкин отводил заглавную роль в своём духовном развитии.
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.
Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось — холод
Бежал по мне и кудри подымал.
Евгений у подножия Памятника кое-что перенял от смутного ужаса мальчика-Пушкина перед статуями в Царскосельском саду. И тот и другие идолы приковывают, околдовывают, властвуют над душой человека. Но, перенеся в ситуацию «Медного Всадника» отроческие переживания и хождения вокруг Аполлона, Пушкин рассёк и развёл себя в лице Петра и Евгения. Пиитический ужас, священное безумие, оторванные от Поэзии, в человеческом исполнении сделались смертным страхом и тёмным помешательством. Не просветлённый гением, хаос поглотил несчастного. А Пушкин, переступив через свою низменную природу, через собственное раздвоение между человеком и гением (составившее тему «Медного Всадника»), возликовал и возвысился вместе с Памятником. Последнему найдена уникальная в своём совершенстве позиция:
И, обращён к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущённою Невою
Стоит с простёртою рукою
Кумир на бронзовом коне.
Спиной к человеку, всем существом в стройной гармонии сфер, попирающий бездны и самое безумие разъярённых стихий подчинивший грозному взмаху простёртой в неколебимую высь, дирижирующей судьбою руки, — таков Аполлон, губитель и исцелитель, хозяин дружественных инструментов — лука и лиры, дальновержец, исполненный нечеловеческой гордости и неземного величия. Те, кому посчастливилось увидеть Аполлона в лицо, находили его точно таким, каким он показан у Пушкина.
«…Я сделал попытку выйти за пределы человеческого и возвыситься до бога Аполлона.
Я узрел его, гневного, в золотистой бронзе, увлечённого битвой и мыслью. Вот она, моя первая попытка подняться над людьми…» (Из письма Антуана Бурделя Сюаресу, 31 декабря 1926 г.).
К сожалению, сейчас у меня нет возможности поточнее узнать, кого изображала вторая статуя в Царском Селе, повергавшая в трепет юного Пушкина. Не исключено, то был Вакх-Дионис: древние, помнится, представляли его женоподобным. Но как бы там ни было, это уже не столь существенно для понимания «Медного Всадника», текст которого принадлежит Аполлону, тогда как Дионис не имеет здесь самостоятельного лица и представлен со своими стихиями оборотной стороной того же Аполлона, солнценосного бога Поэзии, как её, Поэзии, так сказать, творческая подкладка. Истукан и безумие — мы уже видели, что в этих обличьях выступает обычно Поэт у Пушкина в своём чистом и высшем значении, в независимости ото всего. Он либо стоит столбом, ни на кого не обращая внимания, либо носится, как сумасшедший, «и звуков и смятенья полн». В «Медном Всаднике» даны оба варианта: истукан-памятник Петра, построившего Город, и безумие-наводнение, грозящее их затопить, а в сущности ими же вызванное, санкционированное и с ними соединённое.