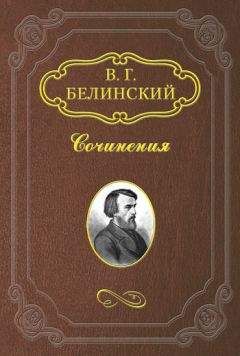Бенедикт Сарнов - Маяковский. Самоубийство
Выйдя после этого инструктажа на улицу, мы с разными шуточками и прибауточками обсуждали все рекомендации инструктора, а особенно эту. Тут мы сразу нарисовали себе примерно такую картину. Идем, значит, мы втроем по какой-то глухой, темной московской улице и видим, что какие-то люди наклеивают на дом антисоветскую листовку. Мы к ним подходим и довольно строго (мы ведь люди официальные, комсомольский патруль) спрашиваем, что это они тут делают.
— А вам-то что? — грубо отвечают нам они.
И тут мы, сразу оробев, отвечаем:
— Да нет, ничего… Может, вам помочь?
Да уж, чего другого, а чувства юмора Володе Солоухину было тогда не занимать.
И Маяковского он тогда понимал.
Л. Н. Толстой, когда кто-то сказал при нем, что стыдно менять свои убеждения, живо возразил:
— Напротив! Стыдно их не менять!
Поэтому я не стану попрекать Солоухина тем, что он поменял убеждения, «сменил вехи». Тут важно не то, что сменил, а — НА ЧТО он их сменил, те свои, прежние «вехи». Но это другая тема, слишком болезненная, чтобы говорить о ней вскользь, поэтому мы ее оставим.
Вспомнил же я об этом только для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что Рассадин — в отличие от Солоухина — своих «вех» не менял. Ему просто захотелось, — чтобы не отстать от новых веянии, — щелкнуть по носу Маяковского. Показалось, что возникла теперь такая общественная потребность.
Одним «щелчком» он при этом не ограничился.
Разделавшись со строчками, которые до него уже осудил Солоухин, он обратился к другому стихотворению Маяковского. И тут, надо сказать, был вполне оригинален, поскольку это стихотворение до него никто не осуждал.
► По-моему, — начинает он, — никто не заметил, что «Разговор с фининспектором о поэзии» Маяковского — вряд ли намеренный, но точный аналог «Разговора» пушкинского….
Имеется в виду пушкинский «Разговор книгопродавца с поэтом».
И вот он сопоставляет стихотворение Маяковского с пушкинским.
Разумеется, Маяковский в ходе этого сопоставления сильно проигрывает. Но вся штука в том, что не поэт Маяковский проигрывает тут поэту Пушкину, а Маяковский — продукт «системы, отрицающей рынок», — Пушкину, который был тоже продукт, но — продукт свободных рыночных отношений:
►…Сама поэтика, ее сравнения и метафоры, то, что в отличие от деклараций не лжет никогда, в этом смысле на редкость выразительна…
Маяковскому, конечно, кажется, будто он шутит, начиная стихи обращением к совчиновнику: «Спасибо… не тревожьтесь… я постою…» — но именно так оно и было. Пушкин, вернее, его «поэт», хотя и не сразу, однако принявший новые условия игры, сидел с книгопродавцем тет-а-тет, на равных, — это при том, что в реальности-то Смирдин, приходя в пушкинский дом, вовсе не ощущал себя ровней хозяину. Да и ему не давали особенной потачки. Возможно, что, явившись в фининспекцию, Маяковский, напротив, стучал тростью и громыхал на самых низах своего знаменитого голоса, но в стихах он — стоит, прося не тревожиться, и сама, как я сказал, не умеющая врать поэтика подтверждает: он там, внутри системы. Системы, заметим, отрицающей рынок, то есть возможность торговаться, разрешающей лишь просить — или требовать, если ты в силе, но сила-то относительная: ты можешь требовать у меньшего чиновника лишь потому, что уже выпросил это право у наибольшего.
Маяковский разместился и уместился внутри того, что было непредставимо для Пушкина и что вызвало у Мандельштама брезгливость и ужас…
(Станислав Рассадин. «Продажные и запроданные», ЛГ, 3. XI. 93)Мандельштам тут помянут не зря. Сакраментальное словечко («запродан»), вошедшее в заглавие его статьи, Рассадин заимствовал именно у Мандельштама. Факт заимствования он не только не скрывает, но и нарочито его подчеркивает соответствующей цитатой из «Четвертой прозы», в которой речь идет о писателях, которые «пишут заведомо разрешенные вещи», потому что «запроданы рябому черту на три поколения вперед». Вот так же, выходит, был запродан — весь, с потрохами! — и не кому-нибудь, а прямо и непосредственно Сталину (это ведь именно его, а не кого другого обозначил Мандельштам под именем «рябого черта») и Маяковский.
И сам вывод, и все сложное, хитроумное построение, из которого этот вывод как бы вытекает, основываются только на том, что в своем разговоре с фининспектором грубиян Маяковский, против ожидания, предупредительно вежлив, чуть ли даже не угодлив: «Спасибо… не тревожьтесь… я постою…». Поэтика, видите ли, не умеет врать!
Но больше о поэтике — ни слова. И главный тезис, с которого начинается этот, если можно так выразиться, анализ («Разговор с фининспектором о поэзии» Маяковского — вряд ли намеренный, но точный аналог «Разговора» пушкинского…) — повисает в воздухе.
А не повиснуть он и не мог, поскольку на самом деле «Разговор…» Маяковского не только не являет собой точный аналог «Разговора…» пушкинского, а, совсем напротив, в некотором смысле представляет полную его противоположность.
Да, и у Пушкина, и у Маяковского «Разговор» идет о поэзии. Но это очень разные разговоры.
Начать с того, что у Пушкина (в отличие от Маяковского) не «Разговор поэта с книгопродавцем», а — «Разговор книгопродавца с поэтом». Начинает, затевает разговор книгопродавец.
Он, правда, особо глубокого понимания сущности поэтического творчества при этом не обнаруживает. «Стишки для вас одна забава, — говорит он. — Плод новый умственных затей». Но не скрывает, что стихи представляют для него несомненную ценность. Во всяком случае, он готов тут же оплатить не слишком понятный ему труд поэта звонкой монетой:
Стишки любимца муз и граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук наличных ассигнаций
Листочки ваши обратим…
Пушкинскому поэту нет нужды доказывать книгопродавцу, что его поэзия нужна людям. Напротив, это книгопродавец изо всех сил старается внушить ему, что его стихи — отличный товар и он готов тотчас же их купить. Поэт же говорит, что не видит в этом особого смысла, поскольку давно уже разочаровался не только в мнении толпы, но даже в той, к кому некогда обращал свои любовные стихотворные послания. Увы, она их отвергла. Так что и этого, последнего стимула для творчества у него теперь уже нет.
Книгопродавец на это признание поэта отвечает вопросом:
Итак, любовью утомленный,
Наскуча лепетом молвы,
Заране отказались вы
От вашей лиры вдохновенной.
Теперь, оставя шумный свет,
И муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?
— Свободу, — отвечает поэт.
Но у книгопродавца, оказывается, есть что возразить и на этот довод поэта:
Прекрасно. Вот же вам совет:
Внемлите истине полезной:
Наш век — торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
На этот резон поэту возразить нечего, и, окончательно убежденный, он переходит на прозу:
Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись.
Условимся.
Итак, не поэт убеждает книгопродавца в своей нужности, а, напротив, книгопродавец изо всех сил старается убедить поэта, что стихи его востребованы, что они нужны людям:
Вкруг лавки журналисты бродят,
За ними тощие певцы:
Кто просит пищи для сатиры,
Кто для души, кто для пера;
И признаюсь — от вашей лиры
Предвижу много я добра.
У Маяковского коллизия совершенно иная. Тут дело обстоит прямо противоположным образом. Не фининспектор поэту, а поэт фининспектору изо всех сил тщится доказать, что он не бездельник, что труд его «любому труду родствен».
Сперва он пытается говорить с фининспектором на его, чиновничьем, фининспекторском, доступном его, фининспекторскому пониманию, языке:
Говоря по-вашему,
рифма —
вексель.
Учесть через строчку! —
вот распоряжение.
И ищешь
мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
склонений
и спряжений.
Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет —
нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
честное слово,
поэту
в копеечку влетают слова…
Пуд,
как говорится, соли столовой
съешь
и сотней папирос клуби,
чтобы
добыть
драгоценное слово
из артезианских
людских глубин.
И сразу
ниже
налога рост.
Скиньте
с обложения
нуля колесо!
Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.
Обратите внимание: он торгуется! Продукт системы, как говорит Рассадин, «отрицающей рынок, то есть возможность торговаться, разрешающей лишь просить — или требовать», — торгуется! Значит, законы рынка в этой жесткой системе еще действуют?