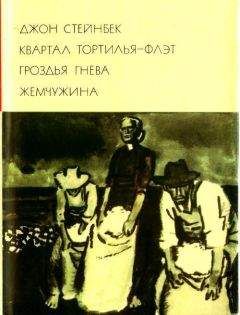А. Марченко - «Столетья на сотрут...»: Русские классики и их читатели
Однако резкие приговоры Чацкому как общественному типу в публицистике смягчались под пером Достоевского–романиста, где точкой отсчета была сама человеческая сущность героя [103].
Достоевский откроет в грибоедовском герое не только идею, но и характер, личность — в ее противоречивых и трагически непримиримых элементах. Пушкинская формула им будет переосмыслена: глупый, но добрый малый у Достоевского превратится в искренне заблуждающегося ("глупость" — как следование ложной идее), но сердечного человека. "Это (Чацкий. — В. П.) фразер, говорун, но сердечный фразер и совестливо тоскующий о своей бесполезности" [104], — напишет Достоевский в "Зимних заметках о летних впечатлениях". "Но пусть он <Чацкий> глуп — зато у него сердце доброе" [105], — отзовется Шатов–Ш[апошни]ков из набросков к "Бесам". Герои, ориентированные на Чацкого, такие, как Степан Трофимович Верховенский, Версилов, Ставрогин, — будут поражать окружающих своей "странностью" (смешанной порой и с "глупостью" и с безумием), непонятным, с точки зрения здравомыслящего нового поколения, гуманизмом, антирационально–стью, своими прорывами в искренность и "сердечность".
Достоевский не забудет и "комических" черт Чацкого— иногда будут смешны и старший Верховенский, и Ставрогин, и Версилов. Не случайно на всю жизнь Аркадий Долгорукий запомнит Версилова в облике Чацкого, которого тот играл на домашнем спектакле: "Я <Аркадий> с замиранием следил за комедией; в ней я, конечно, понимал только то, что она ему изменила, что над ним смеются глупые и недостойные пальца на ноге его люди. Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблен, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он — велик, велик!" [106]За комическим важно было разглядеть великое.
Версилов, по сути, средоточие размышлений Достоевского над судьбой "русских Чацких" — от декабристов до Герцена. Здесь, в "Подростке", он не столько "барин", "крепостник", оторванный от народа, сколько "тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве…" [107]. Происходит переоценка ценностей: в своем анализе типов русской дворянской интеллигенции Достоевский возвращается от этапа "Бесов" к этапу "Зимних заметок…". Тогда же он задумает статью о декабристах под названием "Лучшие люди". Это не случайно, так как размышления о декабристах всегда тесно переплетаются у Достоевского с размышлениями о Чацком — литературном прототипе образа Версилова [108]. Не случайно и потому, что суждения о декабристах проецируются на последующее поколение— на деятелей 40–х годов, в первую очередь на Герцена — исторического прототипа образа Версилова. Герой, представитель "лучших людей", "русской тысячи", связан с двумя фигурами — Чацким и Герценом.
Роман "Подросток", как ни один из других романов Достоевского, пронизан грибоедовскими реминисценциями. Сама история поколения, к которому принадлежит Версилов, показана на фоне Чацкого. Это постоянное присутствие "тени Чацкого" за спиной Версилова особенно заметно в черновиках "Подростка". Здесь встречаем: "Начать с "Горя от ума" и истории поражения" [109]. Или, например, о Версилове как культурном типе "всемирного скитальца": "NB. Как это случилось, что у нас образовался такой любопытный тип всемирно болеющего человека из дворянства Петра Великого? И зачем говорить, что он ни к чему не способен, кроме странствования? Да разве всемирное боленье тоже великое дело? Да неужели все болели, эти и вели‑то и ведут за собой. Да неужели крепостники? Ну вот, именно крепостники. Начиная с Чацкого–крепостника, но ведь довольно из 1000 одного — тысячи и десятки прошли бесследно, а Чацкий‑то вот остался в памяти. О, тут много было фанфаронов, комичных людей, да я ведь не все хвалю" [110].
Молодость героя приходится на 30—40–е годы, и он с удовольствием вспоминает эпоху горячих кружковых споров, замечая: "Это был чад, но благословение и ему" [111]. "Чад" (ведь и Чацкий, и Версилов постоянно в чаду событий, идей, противоречий) — так Достоевский оценит прежние духовные искания Версилова — Чацкого. Но это уже смягченная оценка, данная в свете вынашиваемых писателем идеалов всеобщего единения, братства, гармонии, где "русским Чацким" предстоит сыграть немаловажную роль…
3. СМЕРТЬ ГЕРОЯ
На рубеже XIX и XX веков среди разноголосицы мнений [112]прозвучал один трагический голос, исполнивший реквием по "милому", "восторженному" и навсегда уходящему типу "русских Чацких". Это был Блок, автор незаконченной поэмы "Возмездие", где в облике героя проступали и черты реального прототипа — отца поэта, A. Л. Блока, и "родовые" признаки, восходящие к грибоедовскому Чацкому:
Его прозрения глубоки,
Но их глушит ночная тьма,
И в снах холодных и жестоких
Он видит "горе от ума"… [113]
Раздумья над противоречивостью этого образа постепенно сменились в сознании Блока ощущением трагического финала существования героя — символического знака конца старой культуры и старой эпохи. Не случайно в прозаических набросках к поэме появятся строки: "На фоне каждой семьи встают ее мятежные отрасли — укором, тревогой, мятежом… Может быть, они сами осуждены на погибель… Они — последние. В них все замыкается. Им нет выхода из собственного мятежа…" [114].
Сама смерть Блока воспринималась как осуществление его собственного пророчества, как "возмездие" Истории. Именно так она была осмыслена в статье Б. Эйхенбаума "Судьба Блока" (1921) и в статье Ю. Тынянова "Блок" (1921). Оба отметили как наиболее важные для Блока строки: "Как тяжело ходить среди людей И притворяться непогибшим". Процитировав их, Тынянов напишет: "Об этом холодном образе не думают, он скрыт за рыцарем, матросом, бродягой" [115]. У Эйхенбаума Блок предстает как трагический актер, "загримированный под самого себя", а смерть оказывается неожиданным разрушением сценической иллюзии: "И вот — наступил внезапный конец этой трагедии: подготовленная всем ее ходом сценическая смерть оказалась смертью подлинной…" [116]В судьбе поэта прорисовывалась судьба всего поколения, не выдержавшего перемены роли (Эйхенбаум писал: "Пророки революции, они теперь мрачные ее созерцатели" [117]). "Схождение" Тынянова и Эйхенбаума было знаменательно: обрисовывался культурный тип героя, вступившего на новом витке истории "в противуречие с обществом".
Судьба Блока оказала влияние на возникновение замысла романа Ю. Тынянова "Смерть Вазир–Мухтара" (1927—1928). Этому роману и суждено было подвести итог вековому диалогу с Чацким в русской литературе.
Не случайно и название романа: трагическая гибель героя символизировала крушение мифа, питавшего культуру в течение ста лет. Ощущение "хруста костей", великого слома истории — характерное для всего "поколения на повороте" (Л. Я. Гинзбург) — водило пером Тынянова, показавшего невозможность существования героя и закономерность его гибели. Трагические размышления о человеке, не вписавшемся в "мертвую паузу общества и государства", были, конечно, глубоко автобиографичны. Именно в пору работы над "Вазир-Мухтаром" Тынянов (как и многие представители "культурного поколения", в частности Б. М. Эйхенбаум и В. Б. Шкловский) напряженно размышляет о проблеме поведения, пытаясь отыскать свою "точку совместимости" с окружающим миром.
К судьбе Блока отсылал и эпиграф к роману — известное стихотворение Е. А. Баратынского:
Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет…
В посмертных публикациях стихотворение расшифровывалось как "К портрету Грибоедова". Однако "холодный лик" ассоциировался и с Блоком: вспомним "холодный образ" в статье Тынянова "Блок", вспомним и наверняка известную Тынянову интерпретацию "холодного лика" как портрета Грибоедова в статье Блока "О драме". Там есть скрытая цитата из стихотворения Баратынского: в лице Грибоедова, как замечает Блок, "жизни нет". Таким образом, подобно тому, как у Достоевского двуединый образ Чацкого — Грибоедова постоянно воспринимался под знаком Герцена, у Тынянова Грибоедов — Вазир–Мухтар — был окружен блоковскими ассоциациями.
Центральная проблема романа — взаимоотношения человека с историей и в связи с этим выбор исторического поведения — возвращает Тынянова в "магический круг" грибоедовской комедии. В романе переплелись воедино две предшествующие линии восприятия "Горя от ума". С одной стороны, Грибоедов и Чацкий, автор и герой, соединились в одном персонаже — Вазир-Мухтаре. С другой стороны, тыняновский Грибоедов проецировался на тип "мятежных отраслей", "русских Чацких".