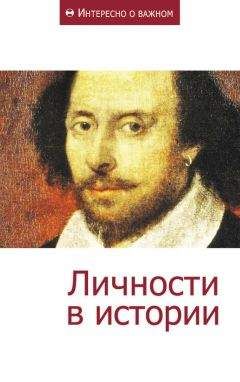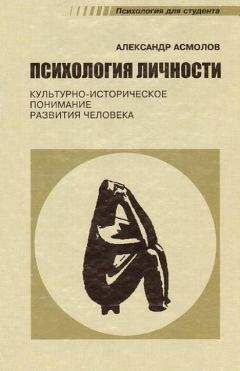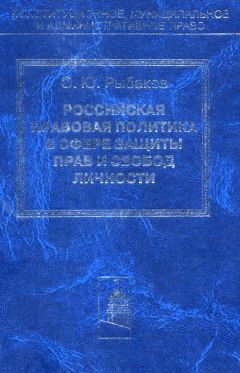Владимир Кантор - В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: опыт русской классики
Надо вспомнить, что после публикации первого письма, помимо унизительных ежедневных посещений николаевского штаб лекаря, свидетельствовавшего об умственном состоянии мыслителя, его бытовые обстоятельства, да и общественные были не лучше. Приведу отрывок из статьи английского исследователь творчества Чаадаева Ричарда Темпеста: «Ещё в 1839 г. умерла Е. Г. Левашова, близкий друг мыслителя, во флигеле дома которой на Старой Басманной Чаадаев поселился в конце 1833 г. Он продолжал жить на той же квартире, теперь постепенно разрушавшейся. Здоровье его начало сдавать, нервы расстроились. Его стали тревожить предчувствия близкой и внезапной смерти»{101}. Несмотря на успех в салонах, такое душевное состояние — глубокого, глухого одиночества длилось практически до конца жизни. Не случайны его слова брату в письме 1852 года: «Чем буду жить потом, не твоё дело: жизнь моя и без того давно загадка»{102}. Невольно кажется, что именно о нём написан лермонтовский «Пророк» (вращаясь в тех же кругах и кружках, поэт не мог не знать, что Чаадаева иронически именовали «пророком»):
С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»
Конечно же, и о себе писал здесь поэт. Напомним, что судьба Лермонтова едва не стала повторением чаадаевской судьбы. Мыслитель был публично объявлен сумасшедшим уже за первую свою привлёкшую внимание общества статью (1836). Первое стихотворение Лермонтова, вызвавшее широкий отклик и сочувствие публики, — «Смерть Поэта» (1837) — встревожило носителей самодержавно-государственной идеи. И поэт чуть было не подвергся участи «басманного мыслителя». На докладной записке А. X. Бенкендорфа по поводу лермонтовского стихотворения Николай I начертал резолюцию: «Приятные стихи, нечего сказать; я послал Веймарна (генерал-лейтенант. — В. К.) в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся, ещё другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону»{103}.
Гневно-обличительный пафос чаадаевской статьи, как и лермонтовского стихотворения, был ещё непривычен для слуха русского общества (Радищев забыт, «Мёртвые души» выйдут спустя шесть лет после публикации «Философического письма»). Но не только в критической направленности было дело. Критику, так сказать, в художественной форме, форме комедийной или даже сатирической, общество, кривясь, всё же принимало. Зная сегодня романы и публицистику Гоголя, Толстого, Достоевского, мы смело говорим о пророческом характере русской литературы. Но надо понять, что в 30-е годы прошлого века никто не ожидал, что именно русский литератор возьмёт на себя функции пророка-проповедника. Причём пророчество это будет, что называется, прямым философско-публицистическим высказыванием. Об этом точно сказал иронически-суровый Чернышевский (сам впоследствии названный «пророком»): «Чаадаев принимал на себя звание проповедника, то есть звание, не принадлежащее светскому человеку; он произвольно присваивал себе должность, на которую не имел права, и такое самовольство, хотя до некоторой степени извиняемое усердием, конечно, не могло быть допущено в благоустроенном обществе»{104}. «Благоустроенное общество» и не приняло Чаадаева. Но наследницей его пророческого пафоса оказалась вся великая русская литература, пусть каждый из писателей и шёл своим идейным путём.
Просмотрим, однако, какова была исходная точка чаадаевских пророчеств, в чём искал он «любви и правды чистые ученья»? Такая точка была, в том сомнений нет. «У меня только одна мысль, вам это известно, — писал он Пушкину. — Если бы невзначай я и нашёл в своём мозгу другие мысли, то они наверно будут стоять в связи со сказанной»{105}. Что же это за «одна мысль»? Если говорить о социально-нравственной стороне её, то это — преодоление рабства, которое, по мысли Чаадаева, насквозь пронизало страну: «Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нём все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, об неё мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели»{106}. Что же пытался он противопоставить рабству?
Тут мы подходим к теме, полузапретной до недавнего времени, — о религиозном характере философии истории Чаадаева. Надо сказать, М. Гершензон (и многие другие историки культуры) прямо называл Чаадаева религиозным мыслителем, но были и исследователи, вообще не обращавшие внимания на его религиозные взгляды. Думается, здесь ближе к истине точка зрения историка русской культуры В. Хороса, который справедливо замечал: «Чаадаева, без всякого сомнения, глубоко интересовали проблемы истории религии и её функций в жизни общества. Вместе с тем он не был теологом. Его религиозность не была самодовлеющей, не вписывалась в качестве составного звена (правда, важного) в его концепцию философии истории»{107}.
Добавлю: весьма важного. Чаадаев верил в целительную и воспитательную роль христианства в развитии человечества, в переходе человечества от состояния варварского к цивилизации. «Только христианское общество, — утверждал он, — поистине одушевлено духовными интересами, и именно этим обусловлена способность новых народов к совершенствованию, именно здесь вся тайна их культуры»{108}. И все беды России он видел в её, так сказать, недостаточной христианизации, которая преодолела бы рабство. Этот его диагноз уже в конце 70-х годов прошлого века повторил опять-таки Достоевский, заявивший: «Христианство есть единственное убежище Русской Земли ото всех её зол»{109}. Очевидно, что если б культура была пронизана христианством, как о том твердили славянофилы, вряд ли была бы нужда в такой пламенной проповеди Достоевского. Но дело-то в том, что Чаадаева смущала не только недостаточность христианизации страны, но и сама форма утвердившегося в России христианства — православие, потому что оно полностью было подчинено нуждам государства, насаждавшего в стране рабство. «Уничтожением крепостничества в Европе, — писал он, — мы обязаны христианству… Почему же христианство не имело таких же последствий у нас? Почему, наоборот, русский народ подвергался рабству лишь после того, как он стал христианским, и именно в царствование Годунова и Шуйского? Пусть православная церковь объяснит это явление»{110}. Примерно в те же годы декабрист М. Лунин писал: «В Российской империи, как ранее в империи Константинопольский, религия, если не считать её божественного происхождения, есть одно из тех учреждений, коими управляется нация… Служители церкви являются вместе с тем слугами государя»{111}. Надо сказать, что и обращение к католицизму некоторых русских свободоищущих мыслителей (М. Лунина, В. Печерина, Чаадаева, затем в немалой степени В. Соловьёва) было актом скорее не религиозным, а гражданственным. Как писал современный исследователь: «Принцип «свободы воли», особенно хорошо разработанный… деятельная сторона католицизма — вот что должно было Лунина привлечь… Распространение католицизма, как ему кажется, могло бы ускорить русскую свободу. Для него это один из элементов освобождающего просвещения»{112}.
Чаадаева упрекали, что он преклонился перед католицизмом, но основное, что его прельщало в этой форме христианского вероисповедания, — это преодоление национальной ограниченности, явно обозначившееся стремление к всечеловеческому единству. «Все европейские народы проходили эти столетия (Средние века и Возрождение вплоть до Реформации. — В. К.), — писал он, — рука в руку, и в настоящее время, несмотря на все случайные отклонения, они всегда будут сходиться на одной и той же дороге. Чтоб понять семейное развитие этих народов, не нужно даже изучать историю… вспомните, что в продолжение пятнадцати веков они молились Богу на одном языке, покорялись одной нравственной власти, имели одно убеждение… »{113} Об этом же в лекциях 1849 года говорил Грановский (что подтверждает общую направленность размышлений европейски ориентированных русских мыслителей): «В древнем мире каждый народ имел свою религию, религия была народною, продуктом национальности, как искусство; в древней мифологии каждый народ выразил сам себя, создавая её по своему образу. Отсюда свирепая вражда народов древнего мира; сражаются не только люди, но и божества… Совсем другое в среднем мире: здесь одна религия, соединяющая всё человечество в одно великое братство, обещающая ему единую будущность… Эта общность религии, принятой западными народами, условила возможность единой европейской цивилизации»{114}.