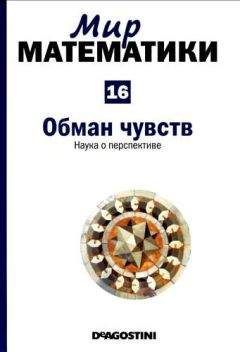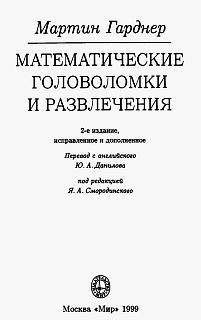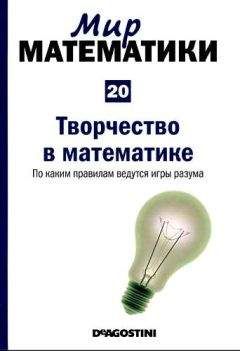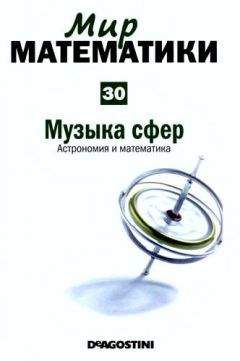Павел Стеллиферовский - "Чего изволите?" или Похождения литературного негодяя
Почему? Да, видимо, потому в первую очередь, что Ноздрев, несмотря на всю скандальность своего поведения, всегда оставался своим, понятным и неопасным, ибо не преступал и не мог по натуре переступить черту допустимых и общепринятых представлений и взглядов. Черту круга, за которой начинается самостоятельность и независимость мнений и суждений, отступление от норм и обычаев. А ведь неизвестно, что можно ждать от человека, который живет по собственному разумению.
А Чичиков разве такой? И нет, и да. Конечно, он скроен на общий манер, по тем же, что и окружающие, меркам. И ведет себя так, как другие, например, его соратники по строительной комиссии или таможне. Он пошл — но и остальные не лучше, беспринципен — но пусть «честный» обитатель губернского города бросит в в него камень. Никто не бросит! Так за что же его оклеветали и изгнали?
Уж конечно, не за мертвые души. Хотя горожане оживленно обсуждали покупки, но «все эти толки и рассуждении произвели, однако ж, самые благоприятные следствия, каких только мог ожидать Чичиков. Именно, пронесли слухи, что он ни более, ни менее» как миллионщик. Жители города и без того, как мы уже видели в первой главе, замечает Гоголь, — душевно полюбили Чичикова, а теперь после таких слухов, полюбили еще душевнее». Значит, было что-то другое.
По-видимому, в характере Чичикова таилась некая, до поры неприметная способность стать иным, чем все. Недаром же Гоголь не раз задумывался о возможности «исправления» своего героя, в котором, по его мнению, еще оставалось нечто от живого человека, способного развиваться и меняться, испытывать чувства жалости, сострадания, даже любви.
«Точно как бы вымерло всё, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души», — писал Гоголь в своих знаменитых «Выбранных местах из переписки с друзьями». Такое впечатление могло бы возникнуть у нормального человека, попавшего в губернский город N. Естественно, что на этом фоне Павел Иванович мгновенно выделился. Пока он был как все, это выделение воспринималось восхищенно и почтительно: «Ах, Боже мой, Павел Иванович! Любезный Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя Павел Иванович! Вот Вы где, Павел Иванович! Вот он, наш Павел Иванович! Позвольте прижать Вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда, вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!»
Но как только Чичиков, пусть невольно, пусть ненадолго, оказался совершенно иным, нежели все думали, и не просто иным, но непонятным (ибо горожане так и не сообразили, в чем дело), кумир был сброшен с пьедестала и растоптан. А дело было так. Чичиков встретил губернаторскую дочку, и ее образ сразу отодвинул в сторону все спекуляции. Первый раз сие произошло по дороге к Собакевичу. Присутствовали только автор и читатели, да и лирические грезы довольно быстро смешались с практическими рассуждениями. Но при новой встрече — на балу — был уже «весь цвет города».
Изумленные обыватели увидели, что Чичиков может стать другим, что все их радости и заботы, которые он охотно прежде разделял, могут оказаться совершенно чуждыми ему. Увидев вновь лицо, которое, по замечанию Гоголя, «художник взял бы в образец для мадонны» и которое резко отличалось от бесформенных обличий присутствующих, Чичиков «остановился вдруг, будто оглушенный ударом". Он так смешался, что не мог, несмотря на свою обычную ловкость, произнести ни одного толкового слова и только что-то пробормотал. Уже губернаторша с дочерью отошли, а он «все еще стоял неподвижно на одном и том же месте» и «вдруг сделался чуждым всему, что ни происходило вокруг него». Всё для Павла Ивановича будто подернулось мглистым туманом, только его избранница «одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы».
И пропал Павел Иванович! «Нельзя сказать наверно, — сочувственно замечает автор, — точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви… но при всем том здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить…» Еще при первой встрече Чичиков ощутил в себе нечто необычное, непохожее на то, что, по слову писателя, «суждено ему чувствовать всю жизнь». А при повторном свидании — «почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром»: «Видно, так уж бывает на свете; видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов…» Вот этих-то нескольких минут и не простили Чичикову!
Он ожил, нарушил правила игры, сбросил привычные маски с лица, задумался не об общем, а о чем-то своем, что было непонятно окружающим, а потому ненавистно: он сбился с принятого тона пустых разговоров, толкал, не видя, окружающих, пренебрегал мужчинами и, что еще хуже, дамами. «Негодование, во всех отношениях справедливое, изобразилось во многих лицах. Как ни велик был в обществе вес Чичикова, хотя он и миллионщик и в лице его выражалось величие и даже что-то марсовское и военное, но есть вещи, которые дамы не простят никому, будь он кто бы ни было…»
С этого момента и начался закат Чичикова. Не хватало только повода для официального разрыва, после которого все двери гостеприимных прежде домов перед ним закрылись бы. Таким поводом стала выходка Ноздрева («Что? много наторговал мертвых?») да и приезд в город Коробочки, которая решила узнать наверняка, «почем ходят мертвые души и уж не промахнулась ли она, Боже сохрани, продав их, может быть, втридешева».
Вот тут-то и полетели по городу фантастические слухи, обраставшие достоверными подробностями, деталями и в итоге превратившиеся в такой ком клеветы и небылиц, что и понять было нельзя, откуда что пошло. Как тут не вспомнить «Горе от ума», «Евгения Онегина» или «Маскарад»! Общественный механизм сработал безотказно.
Конечно, и здесь наблюдалось редкое единодушие в стане большинства. Как у Грибоедова господа N. и О. появились лишь для того, чтобы подхватить и разнести слова Софьи, так и в «Мертвых душах» при рождении сплетни пожаловали лица, о которых ни раньше, ни позже не было сказано ни слова, как будто их и нет на свете. "Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома… Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышпобыло никогда. "На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки и заварилась каша. Всё, что ни есть поднялось. Как вихорь взметнулся до голо, казалось, дремавший город!»
Правда, Гоголь делает скидку на провинциальные нравы, заме чая: «В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи может быть, не обратили бы на себя никакого внимания; но город N уже давно не получал никаких совершенно вестей… что, как известно, для города то же, что своевременный подвоз съестных припасов». В набросках к поэме этот мотив был выделен особо: «Идея города. Возникшая до высшей степени пустота. Пустословие, Сплетни, перешедшие пределы, как все это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени».
Как в «Горе от ума» сплетня объединила всех от графини-бабушки до Загорецкого, — так и у Гоголя оказалось, «что город и люден, и велик, и населен как следует». И вновь единодушие большинства сыграло злую шутку. Понять смысл слухов многие просто были не в состоянии: «Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались в головах их необыкновенно странно…» Вот уж, действительно, неразрешимая загадка! «…Что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах; как же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьмется? и на какие слепые деньги станет он покупать их? и на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? и зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если же он хотел увезти ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если же покупать мертвые души, так зачем увозить губернаторскую дочку? подарить, что ли, он хотел ей эти мертвые души? Что ж за вздор, в самом деле, разнесли по городу?»
Вот здесь бы и остановиться… Нет, ком слухов уже покатился, и его никому не удержать. Никто не верит, но все повторяют: «Однако ж разнесли; стало быть, была же какая-нибудь причина?»
Настоящую причину мы знаем, но обывателям то она была не нужна. Пустота собственной жизни требовала любого наполнения. Чем фантастичнее были предположения, тем с большей охотой им верили, ибо отдавались подобному мифотворчеству с душой. Куда там Загорецкому или Шприху! Здесь нашлись умельцы почище, вроде тех, о которых говорил Базиль в «Севильском цирюльнике». У нас на Руси, поясняет Гоголь, «общества низшие очень любят поговорить о сплетнях, бывающих в обществах высших, а потому начали обо всем этом говорить в таких домишках, где даже в глаза не видывали и не знали Чичикова, пошли прибавления и еще большие пояснения. Сюжет становился ежеминутно занимательнее, принимал с каждым днем более окончательные формы…»