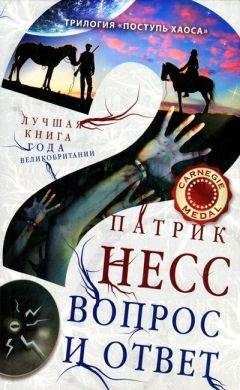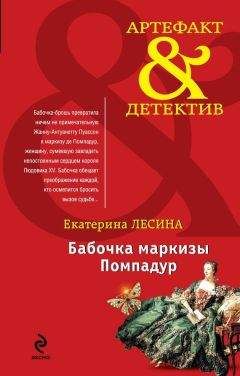Александр Лавров - Русские символисты: этюды и разыскания
Коснувшись числовых выкладок в стихах Гиппиус, мы вплотную подошли к одной из наиболее существенных сторон ее мировидения, выразившейся в девизе «1, 2 и 3» и многообразно запечатлевшейся в поэтическом творчестве. Единство собственной личности Гиппиус переживает главным образом в энергии борьбы составляющих его двух начал: «В одной моей душе, одна моя душа <…> — точно Фауст и Мефистофель вместе»[107]. Ее поэтический мир, при всей его метафизической определенности и законченности, предельно подвижен, он реализуется как непрестанный диалог между двумя противоположными полюсами: с одной стороны, индивидуалистический бунт, «дерзание», уверенный в себе эгоцентризм, с другой — доминирующее религиозно-мистическое начало. Богооставленность — и ощущение Бога; антицерковность — и потребность веры, молитвенный пафос; прославление смерти — и стремление к жизни; самоутверждение — и самоуничижение; сознание греховности — и жажда любви; возмущение — и смирение — этими «противовесами» регулируется все мировосприятие Гиппиус, первичный импульс которого можно схематизировать лаконичным заглавием ее одноактной пьесы — «Нет и да». Провиденные некогда Тютчевым бездны «двойного бытия» становятся для нее объектом магнетического притяжения, переместившись из стихийных сфер в тесные пределы индивидуального сознания. Непрекращающийся диалог осуществляется на различных уровнях: внутри строки («Мне близок Бог — но не могу молиться, // Хочу любви — и не могу любить» — «Бессилье», 1893), внутри строфы:
Идут — красивые, и безобразные,
Идут веселые, идут печальные;
Такие схожие — такие разные,
Такие близкие — такие дальные…
в двухчастной образно-тематической композиции стихотворения, в двуединстве, возникающем из соположения самостоятельных текстов (за стихотворением «Христианин» непосредственно следует «Другой христианин», стихотворению «Днем» предшествует стихотворение «Ночью», одно за другим печатаются два стихотворения, одинаково озаглавленные — «Она», — но если в первом «она» — душа — «мертвая», «черная», «холодная», то во втором — «свободная» и «чище пролитой воды», и т. д.); даже в различных авторских вариантах одной и той же строки, как в сонете «16»: «Любовию иль нежностью волнуем» — «Жестокостью иль нежностью волнуем». Любому выстраданному и глубоко, искренне пережитому тезису неизбежно противополагается столь же закономерно возникающий антитезис. И сами стихи для Валентины, «авторской» героини «Златоцвета», — «в одно время и величайшая истина и величайшая ложь»[108].
Подчеркивая эту «религиозную полярность» в поэзии Гиппиус, «антиномичность тем, почти ни у кого из наших поэтов не встречающуюся», М. Шагинян заключает: «Это есть именно поэзия пределов, самое творчество является тут не по пути переживания, а венцом его, на пределе пережитого»[109]. Такое одновременно страстное устремление к двум противоположным метафизическим бесконечностям нередко озадачивало, порождая гипотезы о неадекватности поэтической индивидуальности Гиппиус самой себе. «…Когда задумываешься, — писал Роман Гуль, — где у Гиппиус сокровенное, где необходимый стержень, вкруг которого обрастает творчество, где — „лицо“, то чувствуешь: — у этого поэта-человека, м. б., как ни у кого другого, нет единого лица. Страшное двойное лицо. Раздвоенность. Двоедушие»[110]. К. И. Чуковский считал, что лирика Гиппиус всецело находится во власти «мании противоречия» (mania contradictionis): «В мятежности и дерзости — святость; в молитве — кощунство; в гордыне — любовь». «И если бы случайно как-нибудь я прочитал у вас, — пишет критик, обращаясь к поэтессе, — что горе, например, тягостно, а радость сладостна, я бы этому весьма изумился, как самому диковинному парадоксу. <…> Любовь без ненависти и веселость без скорби вам, я думаю, недоступны»; «Каждое чувство, едва родившись, тотчас же умерщвляется противочувствием, приводится к нулю, к пустоте»[111]. И все же, думается, основные начала внутреннего мира Гиппиус не аннигилируются в своей неизбывной антитетичности, а утверждаются в той неразложимой универсальной сути, которая постигается уже за пределами четко очерчиваемых пределов, конкретных идей и понятий. Сама Гиппиус не случайно подчеркивала, что «двойственность есть уже признак несовершенности, неконечности»: «Не говорите же мне никогда, что есть две правды и два Бога. <…> А у тех, у кого две правды — нет ни одной»[112]. Она же утверждала, что состояние двойственности неприемлемо в этическом плане: «С уверенностью в окончательной двойственности мира и неистребимости зла — жить нельзя»[113]. Очень проницательно разгадал эту последнюю и всеобъемлющую субстанцию, вбирающую в себя всю бесконечную иерархию противоборствующих метафизических явлений и структур, И. Ф. Анненский: «Для З. Гиппиус в лирике есть только безмерное Я, не ее Я, конечно, не Ego вовсе. Оно — и мир, оно — и Бог; в нем и только в нем весь ужас фатального дуализма; в нем — и все оправдание и все проклятие нашей осужденной мысли; в нем — и вся красота лиризма З. Гиппиус»[114]. Не пустоту, а глубинную целостность и стабильность, внутреннюю закономерность и целесообразность, таящиеся под кажущимися противоречиями в мыслях и настроениях, почувствовал в поэтическом мире Гиппиус и А. А. Смирнов: «На самом деле в нем есть лишь одна большая идея, постепенно раскрывающаяся в своих разных степенях, подобная цельному кристаллу, поворачиваемому к нам то одной, то другой из своих очень несходных сторон»[115].
«Безмерное Я», «большая идея» в творческой метафизике Гиппиус обусловливают трактовку всех тем и мотивов, определяют тональность всех лирических эмоций и настроений, сконцентрированных в ее поэзии. Осуществление «большой идеи» открывается Гиппиус как путь к неведомому Богу: «Я знаю только одно, верю только в одно — это что надо Бога, что Бог — это то, что не я, и что мне нужно направление от я к этому не я <…> я не хочу творить кумира, я ищу одна это направление от меня к не ко мне, а ко Христу иду лишь как к Учителю, и он идет со мной <…> он Учитель, мой Учитель, самый мне близкий, но не Бог, не сам Бог, а звезда к Нему»[116]. Потребность соприкоснуться с главной в мире божественной тайной связывается с мистической идеей троичности — развитой на основе центрального догмата христианской теологии концепцией грядущей церкви «белого, Иоаннова Евангелия» (подробно разработанная Мережковским, эта мировоззренческая система в интерпретации Гиппиус осмысляется как Троебратство — религиозно освященный метафизический союз людей). Мистический императив побуждает Гиппиус к отвлеченно иносказательным формам поэтического высказывания. В ее стихах, при всей остроте наблюдательности и отчетливости мысли, редко встречаются пластические приметы материального мира как самоценный объект художественной интерпретации, чаще всего они возникают как форма выражения душевных пульсаций. «Жизнь», творимая подобным методом, не является слепком с действительности, это — жизнь умопостигаемая, обретаемая в скрещениях интеллекта с интуицией, рождающаяся на путях напряженного религиозного искания и молитвенного озарения. Гиппиус, по замечанию Н. Бердяева, «все ищет „смысла“, и иногда кажется, что „жизнь“ она любит меньше „смысла“»[117]. Замкнутость в кругу отвлеченных смыслов и развоплощенных образов характерна для многих стихотворений Гиппиус; приведя одно из них («Предел», 1901), с заключительными строками:
Звуков хотим, — но созвучий боимся,
Праздным желаньем пределов томимся,
Вечно их любим, вечно страдая, —
И умираем, не достигая…—
И. Анненский заметил: «это — ноты и аккорды, но на немом пианино»[118].
Путь к неведомому Богу, приводящий к достижению конечного единства и преодолению метафизических двойственностей, Гиппиус обретает через Любовь, которая для нее — и главная действенная жизненная сила, и важнейший атрибут души. Любовь в ее понимании — менее всего «земное», плотское чувство; божественная по своей природе, но обманчивая и постоянно ускользающая, она становится для Гиппиус и высшим мерилом всего совершающегося, и постоянным стимулом к выявлению своего подлинного «я» и к благому пересозданию мира. В письмах к З. А. Венгеровой писательница восклицает: «Любовь! Я истратила все силы, чтобы найти тень этого чуда. И когда всё истратила, то поняла, что напрасно искала, потому что ее нет. Нет — или есть, как Бога нет или есть. Нельзя без него — и он есть, и плачем вечно о нем — ибо его нет. Я на расстоянии и не различаю теперь, точно ли я любви искала, хотела и ждала, — мне кажется, что я не думала о любви, а только о Боге» (18 мая 1897 г.); «Я все свои силы любви отдала любви. Я люблю любовь так, как люблю Бога. Это один из бесконечных символов Бога» (2 мая 1897 г.)[119]. Порой Бог и Любовь в сознании Гиппиус сливаются до полной нерасторжимости: «Я ищу Бога-Любви, ведь это и есть Путь, и Истина, и жизнь. От Него, в Нем, к Нему — тут начинается и кончается все мое понимание выхода, избавления»[120].