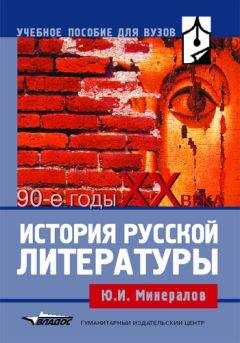Коллектив авторов - История русского романа. Том 1
нельстивые живописцы изучаемой ими природы».[406] И далее, как будто опять имея в виду «Евгения Онегина», Вяземский утверждает: «…в сем романе должно искать не одной любовной биографии сердца: тут вся история его».[407]
О значении «Адольфа» для русской литературы сказано много. Л. В. Пумпянский, например, видел его отражение не только в «Евгении Онегине», но и в «Герое нашего времени»: «… вся постановка в лермонтовском романе вопроса о Печорине, равно как самый тип литературного суда над современным героем, над „героем нашего времени“, сложились под самым непосредственным воздействием Констанова романа».[408] E. Н. Михайлова тоже считает, что из всех образцов французского субъективного романа ближе остальных к лермонтовскому роману стоит «Адольф»: «В образах Адольфа и Печорина немало точек соприкосновения».[409] Правда, дальше E. Н. Михайлова показывает разницу между этими романами — «между принципами художественного построения „Адольфа“ и „Героя нашего времени“, посвященного не истории любви, но общественной судьбе незаурядного человека, обреченного судьбой на бездействие и яростно восстающего против предначертанной ему трагической участи… Ни в сюжете романа, ни во взаимоотношениях персонажей, ни в идейных выводах нельзя найти сходства между „Героем нашего времени“ и „Адольфом“. Единственное, в чем его можно обнаружить, это в характере героя и в методе раскрытия его образа».[410] Однако при этом оставлен в стороне важнейший вопрос — об отражении «Адольфа» в «Евгении Онегине», а главное — нет историко — литературной постановки всего вопроса.
Имя Б. Констана, как автора «Адольфа», ставится у нас часто рядом с Мюссе («Исповедь сына века»), и тем самым Констан оказывается в одном ряду с французскими романтиками 30–х годов. На самом деле «Адольф» был написан в 1807 году, т. е. еще до появления «Чайльд — Га- рольда» Байрона (1812),[411] а «Исповедь сына века» вышла в 1836 году, Это произведения не только разных стилей, но и разных эпох. «Адольф» находится в прямой связи с книгой м — м де Сталь «О Германии» (1810) и с традицией «вертерианства». Недаром герой этого романа — немец (редкий для французской литературы случай), кончивший курс в Геттингенском университете; действие романа происходит частью в Германии, частью в Польше (откуда родом героиня). Во Франции 30–х годов эта книга была явлением прошлого, достаточно забытым. Бальзак упомянул об «Адольфе» в романе «Беатриса» (1839), но именно в связи с литературой начала 20–х годов.[412] В 1824 году вышло третье издание «Адольфа», и в предисловии автора было сказано, что «публика, вероятно, его забыла, если когда‑нибудь знала».[413]
Всё это необходимо учитывать при изучении русского романа 30–х годов; и «Героя нашего времени», в частности. Появление в 1831 году двух русских переводов «Адольфа» было подсказано «чисто русскими» (как сказал бы Гоголь) литературными проблемами, а не простым «влиянием» моды. Б. Констан закончил «Адольфа» перепиской между бывшим приятелем героя и «издателем» рукописи. Приятель рекомендовал напечатать эту назидательную историю: «Несчастие Элеоноры доказывает, что самое страстное чувство не может бороться с порядком установленным. Общество слишком самовластно… Итак, горе женщине, опершейся на чувство и т. д. Что касается Адольфа, то он, по словам приятеля, «оказавшись достойным порицания, оказался… также и достойным жалости». Издатель ответил, что он издаст эту рукопись — как «повесть довольно истинную о нищете сердца человеческого», которая доказывает, что «сей ум, которым столь тщеславятся, не помогает ни находить, ни давать счастия»: «Ненавижу… сие самохвальство ума, который думает, что всё изъяснимое уже извинительно; ненавижу сию суетность, занятую собою, когда она повествует о вреде, ею совершенном, которая хочет заставить сожалеть о себе, когда себя описывает… Ненавижу сию слабость, которая обвиняет других в собственном своем бессилии и не видит, что зло не в окружающих, а в ней самой… Обстоятельства всегда маловажны: всё в характере; напрасно разделываешься с предметами и существами внешними: с собою разделаться невозможно».[414]
Как всё это далеко от романтизма, от Стендаля или Мюссе! Что касается «Героя нашего времени», то если бы мы не знали, что этот роман написан через тридцать лет после «Адольфа», можно было бы подумать, что Б. Констан написал свой роман именно против Лермонтова — против его предисловия к «Журналу Печорина», в котором сказано о возможности «оправдания» поступков героя: «… мы почти всегда извиняем то, что понимаем».[415] В действительности «Адольф» послужил Пушкину одним из литературных источников для создания «Евгения Онегина» — и то с тем, чтобы роману о «нищете сердца человеческого», о судьбе слабого человека противопоставить роман о судьбе целого поколения, связать психологию с историей. В заметке о переводе «Адольфа» Пушкин процитировал собственные стихи — о современном человеке «С его безнравственной душой, Себялюбивой и сухой» (П, XI, 37), как будто совпадающие с образом Адольфа; однако эти слова сказаны не о самом Онегине, а о тех «двух или трех романах», которые он читал: отождествлять его с героями этих романов (в том числе и с Адольфом) нет никаких оснований. Что же касается «Героя нашего времени», то прав был Б. В. Томашевский, когда писал: «… было бы ошибочным думать, что Печорин — герой того же века, что Адольф и Чайльд — Гарольд. В русской литературе наметилась ^определенная грань между этими героями и всеми возможными новыми героями века. Такой гранью явился „Евгений Онегин“ Пушкина… После романа Пушкина уже исключалась возможность прямого „влияния“ предшествующих героев. Конечно, Лермонтов знал их всех и мог непосредственно переносить некоторые черты их на героев своего романа. Но это перенесение сопровождалось сознанием, что в русской литературе уже был дан наследник этих персонажей… Герои Пушкина и Лермонтова — представители уже нового поколения, для которых герои Констана и Шатобриана представлялись в том же хронологическом отдалении, как для Адольфа отдален был Вертер и его современники».[416]
2Работе Лермонтова над «Героем нашего времени» предшествовали другие опыты в прозе: в годы 1833–1834 он писал роман из эпохи Пугачевского движения («Вадим», в 1836 году — роман из современной светской жизни («Княгиня Лиговская»). Оба романа остались незаконченными и появились в печати много лет спустя — уже в качестве редакторских публикаций. Можно было бы пройти мимо этих юношеских опытов, поскольку никакого значения в истории русского романа 30–х годов они не имели, а в литературе о Лермонтове им уделено достаточно места и внимания.[417] Мы бы так и сделали, если бы в нашем распоряжении были какие‑нибудь материалы (письма, дневники, воспоминания), помогающие понять процесс движения Лермонтова от этих незаконченных романов к «Герою нашего времени», понять логику этого движения, которая, как логика всякого творческого процесса, отражает общую историческую закономерность. «Пора оставить несчастное заблуждение, что искусство зависит от личного вкуса художника или от случая, — писал Герцен в 1838 году. — Религия, наука и искусство всего менее зависят от всего случайного и личного…». Эти слова существенны не только как выражение общей идеи, но и как убеждение современника, молодого человека 30–х годов, с юности привыкшего к сознанию, что «есть высшая историческая необходимость».[418] Это сознание было, без сомнения, присуще и Лермонтову.
При полном же отсутствии вспомогательных материалов надо воспользоваться ранними художественными опытами Лермонтова — взглянуть на них как на подготовительные движения, найти элементы той «необходимости», которая привела автора от этих «неудач» к созданию такого гениального произведения, как «Герой нашего времени».
Для начала 30–х годов было, конечно, совершенно естествено (мы бы даже сказали — неизбежно) взяться прежде всего за работу над истори ческим романом и, конечно, над романом из русской истории: достаточной литературной предпосылкой для этого было наличие «Истории государства Российского» Карамзина и появление «Истории русского народа» Н. А. Полевого. Бурная полемика вокруг этих сочинений свидетельствовала о жизненности и злободневности самих проблем. Надо при этом учесть, что историческая наука и историческая беллетристика были тогда в теснейшем союзе — настолько, что, по словам Пушкина, «новая школа французских историков образовалась под влиянием шотландского романиста» (П, XI, 121). Пушкин в своей художественно — исторической работе последовательно шел от смутного времени («Борис Годунов») к петровской эпохе («История Петра», «Арап Петра Великого), а отсюда— ко времени Пугачевского движения («История Пугачева», «Капитанская дочка»). Исторические интересы и увлечения юного Лермонтова носили на себе явные следы декабристских тем и традиций: их идейным стержнем была проблема героики в борьбе с самовластьем (поэма «Последний сын вольности», 1830). В последующие годы Лермонтов, как бы повторяя Пушкина, пришел тоже к Пугачевскому движению: оба замысла были подсказаны русской действительностью и историей. В начале 30–х годов крестьянские восстания приняли такие размеры, что стали угрожать новой «пугачевщиной». Однако лермонтовский Вадим становится во главе движения не столько под влиянием социальных идей, сколько по мотивам социальной мести (как Дубровский у Пушкина); тем самым общественно — историческая проблема уступает место проблеме моральной.