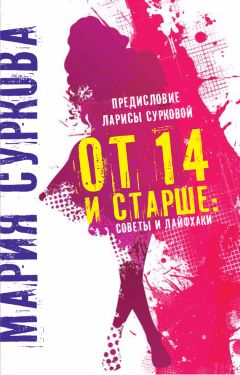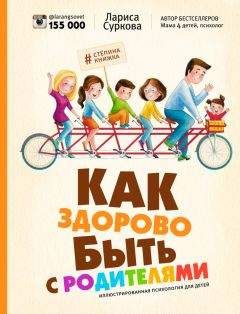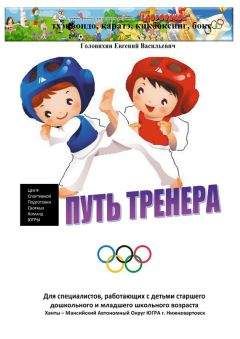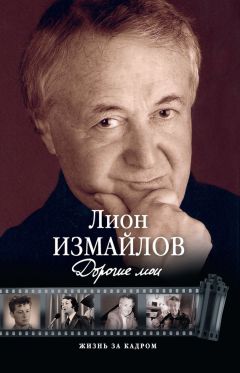Сильвия Энтони - Открытие смерти в детстве и позднее
Я не живым, а мертвым угодить
Хочу затем, что с ними буду вечно
Лежать в земле. А ты живи, презрев
Все, что святым считают боги.
Исмена:
Свято
Я сердцем чту богов, но силы нет
Противиться велению законов.
Антигона:
Ищи себе предлога… Я иду
Могильный холм воздвигнуть Полинику.
* * *Антигона:
Равняет всех Аид.
Креонт:
В Аиде злым и добрым – воздаянье
Неравное.
Антигона:
Что свято на земле,
Считают ли святым в загробном мире?
Креонт:
И мертвый враг не может другом быть.
Антигона:
Я родилась не для вражды взаимной,
А для любви [74] .
В «Антигоне» нет ясного отрицания окончательности смерти. Тем не менее, на родичей возложено священное обязательство хоронить умершего. Креон, который готов исключить мятежников даже из своей непосредственной семьи, поднимает вопрос: «Кто моя семья? Кто может заявить на это право?» У самой Антигоны нет на него однозначного ответа: когда ее ведут на смерть, она говорит, что не ослушалась бы царя из-за мужа или сына. Некоторые критики считали, что эти строки могут быть вставкой в текст (что само по себе свидетельствовало бы о культурном конфликте); однако относительно других культур известно, что ритуальные обязательства имели жесткие границы. Один индус приводил профессору Карстэсу [75] санскритский текст, где говорилось о сыне как о том, «кто спасает человека от ада», поскольку только сын может исполнить обряды, без которых нирвана недостижима.
В книге Товита [76] то же священное обязательство является главной темой не столь четко выстроенной истории. Подобно Антигоне, Товит упорствовал в захоронении мертвых, оказывая неповиновение власти. Границы «семьи» здесь не оставляют сомнений: это еврейский народ. История Товита наивно собирает вместе ряд сюжетов, связанных с нашей темой. Автор – еврей, возможно, живший в Асуане (остров Элефантина) в третьем-втором столетии до н. э., – сценой своей истории сделал Ассирию и Мидию пятьюстами годами ранее. Товит, главный герой, со своей женой Анной и сыном Товией, взят в плен в Галилее ассирийцами и уведен в Ниневию. Там он достиг высокого положения при царском дворе. Его должность требовала путешествий в Мидию, где он оставил на хранение некоторую сумму денег. Дома, в Ниневии он может жить как благочестивый ортодоксальный еврей, – до тех пор, пока не умирает его покровитель, царь. При новом царе, Сеннахерибе, в государстве начинаются беспорядки. Товит не может бывать в Мидии. Иудея оккупирована, множество евреев в Ниневии убито.
...Тайно погребал я и тех, которых убивал царь Сеннахирим… И отыскивал царь трупы, но их не находили. Один из Ниневитян пошел и донес царю, что я погребаю их, тогда я скрылся. Узнав же, что меня ищут убить, от страха убежал из города. И было расхищено все имущество мое, и не осталось у меня ничего, кроме Анны, жены моей, и Товии, сына моего.
Не прошло и двух месяцев, как Сеннахериб был убит собственными сыновьями. Его преемник ставит «над всею счетною частью царства своего и над всем домоправлением» племянника Товита, Ахикара [77] , благодаря заступничеству которого Товит был прощен. Вскоре в праздник Шавуот Товит говорит Товии выйти и найти бедного, достойного еврея, чтобы тот разделил с ними их обед. Товия возвращается с сообщением о еврее, который лежит убитый на рыночной площади. Товит хоронит этого человека, чем вызывает насмешки соседей, которые интересуются, не хочет ли он прежних неприятностей. Затем Товит слепнет. Он полагает, что наказан Богом за свои грехи, и молится о ниспослании смерти [78] . При этом он вспоминает о деньгах, оставленных в Мидии, поэтому он призывает Товию и делает ему длинное наставление: живи праведно, подавай милостыню, возьми жену из рода своего, выплачивай своим слугам их заработок безотлагательно, не пьянствуй, раздавай хлеб на похоронах праведных, но не давай ничего грешникам и – наконец, – иди и забери деньги из Мидии; вот тебе расписка, найди проводника и отправляйтесь вместе с ним.
В поисках проводника Товия «встретил Рафаила. Это был Ангел». Отец одобрил попутчика, поскольку неопознанный ангел заявил, что он из собственного рода Товита. Так что они отправились в путь вдвоем, и с ними еще собака Товии, хотя Анна плакала и говорила Товиту, что он слишком жаден до денег, которые – ничто по сравнению с их ребенком.
У ангела было дополнительное поручение – спасти от самоубийственной печали девушку из рода Товита, чьи семь мужей были убиты один за другим злым духом во время брачной ночи еще до того, как ложились с нею. Товия слышал об этом и, когда Рафаил сказал, что ему следует на ней жениться, воспротивился поначалу, ответив, что его смерть глубоко огорчит его родителей. Но Рафаил научил его, как отпугнуть злого духа, и бракосочетание состоялось. Отец невесты ночью втихомолку вырыл могилу, но утром обнаружил, что она не нужна: муж еще жив.
Свадьба задержала путников на две недели. Товит считает дни и начинает тревожиться; Анна – в полном отчаянии. Но вот Товия и ангел в конце концов возвращаются с новобрачной и с деньгами, и собака весело бежит впереди, виляя хвостом (в латинской версии). В довершение всего, Рафаил инструктирует Товию, как излечить отца от слепоты. Рафаилу предлагают щедрое вознаграждение; в ответ он спокойно открывает им свою ангельскую природу поручает написать книгу обо всей истории и исчезает.
Очевидно, традиционное священное право «родни» [79] на похороны не было связано с верой в будущую жизнь. У могущественных людей постоянно возникало искушение бросить вызов традиции, заявив тем самым притязание на деспотическую власть, – власть, поднявшую себя над божественным законом [80] . Традиция служила почвой для противостояния этому непомерному деспотизму. Она выдержала не только скептицизм по отношению к загробной жизни, который был так же широко распространен в древнем мире, как и сегодня, но и вопросы о границах обязательств. Римский поэт Гораций (в необычно туманной оде) молит проходящего мимо моряка бросить хотя бы три пригоршни земли на труп незнакомца, лежащий на берегу, – для того лишь, чтобы избежать опасности пренебрежения столь священным долгом. Едва не потерпев кораблекрушение у этого берега, Гораций, возможно, воображал на нем собственный труп или думал о легендарном кормчем Палинуре, убитом здесь после того, как он спасся от бури [81] .
Когда выживание духа человека после смерти уже больше не считалось очевидным жизненным фактом, заповеди не убий и сохрани жизнь приобрели этическое и сакральное наполнение, прежде связанное с погребальными ритуалами. Однако в обоих случаях поддержание существования других людей рассматривается как одна из главных социальных обязанностей, перед которой должны отступать мелкие заботы и эмоциональные потребности повседневной жизни; обе системы взглядов обусловлены соответствующими концепциями смерти. Конфликт между сакральной традицией и произволом человеческой власти рождает вопросы, которые впоследствии вырастают в более общую проблему человеческого братства. У Товита не было никаких сомнений в том, кого именно ему надлежит хоронить, но другие евреи не разделяли его уверенности. Проблема ставится в истории о еврее, который подвергся нападению разбойников и был ими брошен полу мертвым [82] . Мимо один за другим прошли двое респектабельных представителей его собственного народа, не сделавшие ничего, чтобы ему помочь. Следующий прохожий, принадлежавший другому племени, ценою многих забот и расходов спас раненому жизнь. В этой притче посредством контрвопроса объясняется, что значит быть «ближним». Однако, если исходить из древней традиции святости погребальных обязательств, здесь, несомненно, можно обнаружить еще одну тему: не следует ли относиться к живым и полумертвым с такой же заботой и добротой, как и к мертвым?
Взгляды древних на обязательства живых перед мертвыми приводят к моральным и политическим вопросам, более чем насущным сегодня. Они отражают тревоги и неопределенность, связанную со смертью, а также убежденность – вероятно, не находящую рационального обоснования, – что с мертвыми нужно обращаться очень заботливо. Все это наблюдается также в поведении детей.
...[ПИ 4] Гарольд нашел в саду мертвую крысу Они с Фрэнком стали ее топтать, но Дэн заявил: «Не делайте ей больно». Тогда Гарольд предложил: «Давайте похороним ее», и все этим занялись. Фрэнк спросил: «Она теперь сможет ожить?» Другой ребенок сказал: «Интересно, крысе это нравится?»
[ПИ 5] Дети нашли мертвого крольчонка, лежащего снаружи клетки… пришли к выводу, что его убила кошка или крыса. Джейн (10 л. 9 м.) спросила: «Мы разрежем его?» Миссис I. ответила: «Если хочешь». Но через некоторое время в тот же день дети объявили, что решили не разрезать крольчонка, а похоронить его. Присцилла (7 л. 5 м.) сказала: «Он такой хорошенький, мы не хотим его резать, мы хотим его сохранить». Они похоронили крольчонка в ямке; прибили гвоздями одну к другой две деревянные планки, соединив их в форме креста, и поставили над кроличьей могилой. На «кресте» написали: «Усачу, сыну Бенджи и Бернарда. Родился… Убит…» [83]