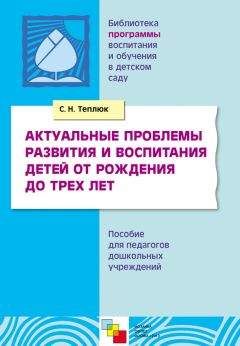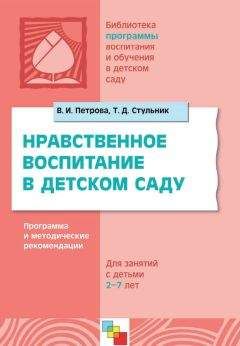Юрий Азаров - Семейная педагогика
Это ей, Люде Гуровой, стало невмоготу жить, когда неожиданно пробудилась в отце дикая подозрительность и он стал чуть не каждый день пытать дочь: «Да с кем была, да когда была, да где была?!» И все – с оттенком сверляще-утонченной оскорбительности. Поначалу мать защищала дочь, а потом мало-помалу перешла на сторону отца. И когда родители объединились, Люда не выдержала, сорвалась и выпалила:
– А я уже беременна. И рожу. И уйду от вас.
И тогда отец ударил. И ударила мать. И вдвоем набросились на дочь…
Это она скажет потом родителям о своей ненависти к ним. Это она напишет заявление прокурору города, но не отправит в самую последнюю минуту потому что жалко станет родных: бросится она со слезами на глазах к Сашкиной матери, выплачется и уйдет к себе домой: пообещали отец с матерью больше никогда ее не трогать. «Тронете – больше не увидите», – сказала им дочь…
6. Погоня за детской любовью и за детскими симпатиями – педагогический порок
Сашкину классную руководительницу звали Екатерина Ивановна. Ее он одновременно и жалел, и недолюбливал.
Жалел за то, что она больна была какой-то серьезной болезнью (ходили слухи, что неизлечимой), за то, что у нее ничего, кроме класса, не было: раньше всех приходила в школу и позже всех уходила. И еще жалел за что-то такое, чего сам понять не мог. Потому и крутился возле нее: то сумку домой отнесет, то в очереди простоит, то класс уберет по доброй воле своей.
Зная Сашкин строптивый характер, никто и подумать не мог обвинить его в подхалимаже.
А недолюбливал Сашка свою наставницу за ее настырную бестактность. Эта бестактность ею подавалась под видом такого тошнотворного благородства, что Сашка места себе не находил.
Екатерина Ивановна вела любимый Сашкин предмет – историю. Уже бывало, когда Сашка по полчаса дополнял так, что все рты раскрывали, а потом шумели: «Ну поставьте ему пятерочку», – Екатерина Ивановна стояла на своем:
– Дружба дружбой, но служба службой, – говорила она, подчеркивая свою справедливость, – не могу поставить «пять». Конечно, Саша знает материал, но знания у него отрывочные.
Все вроде было бы правильно, если бы не другие факты. Ибо кое-кому Екатерина Ивановна все же ставила пятерки и за слабые ответы, ставила просто так, для поддержки духа. Всем, кроме Сашки.
И еще он не любил в учительнице то, что она словно бы выжимала из ребят любовь к себе. То анкету придумает, то сочинение проведет на тему «Мой любимый предмет», или «Мой идеал учителя», или «Чем мне дороги учителя родной школы?».
Эти сочинения для Сашки были пыткой. Он знал, что Екатерина Ивановна ждет благодарности: жаждет, чтобы все написали, что она самый лучший педагог, что ее главные черты: щедрость души, высокая идейность, доброта, требовательность.
Щуплый Сашка на этих сочинениях был сам не свой. Иногда дурачком прикидывался: «А чего писать?», «А у меня ручки нет». А иногда заводился так, что Екатерина Ивановна вынуждена была потом беседовать с ним наедине. «Я тебе все отдаю. А ты такой неблагодарный. Ну как ты мог?..»
Екатерина Ивановна была прямым антиподом Владимиру Павловичу. Если позиция Владимира Павловича основывалась на педагогике Макаренко, то воспитательное кредо Екатерины Ивановны зиждилось, как она говорила сама об этом, на гуманистической концепции Сухомлинского. «Я сердце отдаю детям, – говорила она, повторяя слова павлышского учителя, – а вы пришли в школу без цветов. Я вас люблю так, как, может быть, никто вас никогда любить не будет, а вы забыли своего учителя…»
В учительской, на родительских собраниях она твердила о необходимости чуткого и доброго отношения к детям с такими приторными интонациями, что слушающих слегка подташнивало: они не знали, куда прятать глаза, не знали, как остановить этот бестактный поток педагогических излияний.
Класс Екатерины Ивановны считался правофланговым: здесь всего было больше: и макулатуры, и мероприятий, и пятерок. Здесь было больше всего маршрутов, походов, соревнований, конкурсов. По всем классным мероприятиям здесь была тщательно составленная картотека и в любое время можно было получить обстоятельную справку. На всю эту работу уходила бездна времени. До седьмого класса Сашка безропотно участвовал в ней, а в седьмом сказал:
– Зачем это все?
Тогда Екатерина Ивановна отчитала Сашку, а теперь что-то в душе у нее дрогнуло, что-то забилось, точно новая вина перед Сашкой открылась. Действительно, зачем эта вся показуха? За оголтелой суетой, за громкими словами, за шумихой и соревновательным ажиотажем терялось главное: человек, отношение к ребенку; духовные ценности уничтожались в беге, растаптывались в увлекательном безразличии.
И дело здесь не в обилии мероприятий, а в таком укладе школы, когда ложный пафос начинает доминировать в воспитательной практике и становится способом вытеснения подлинных духовных ценностей.
Что-то меняется местами, что-то теряется, где-то образуются провалы, и в конечном итоге серьезное превращается в фарс, в скуку, притупляя чувства, способность сострадать. Неслучайно Сухомлинский настаивал на том, чтобы воспитание осуществлялось не только на одном мажоре. Мир полон человеческого страдания, и с этим страданием так или иначе столкнутся наши дети.
И смерть человеческая, когда она рядом, не может пройти бесследно для окружающих. У смерти своя жестокая бескомпромиссность. Она становится для окружающих тайным пластом их собственного самочувствия. И никакое стремление избавиться от этого пласта каким-то увлекательным способом не спасает человека. Сама природа мстит за неуважение к смерти. Смерть всегда рождает комплекс вины, от которого невозможно избавиться. И, наверное, поэтому человечество создало обряды и обычаи для поминок ушедших, чтобы эти поминки, возможно, становились и собственным очищением ныне живущих поминающих.
Если человек не ощущает этой вины перед погибшим – нарушается нравственный закон ответственности за все живое на этой земле. Научить детей понимать все это – альфа и омега воспитания уважения к человеческой жизни. Вот почему, каким бы трагическим ни был случай, с которым столкнулись дети, задача сделать все возможное и для памяти погибшего, и для его родных и близких становится наиглавнейшей.
Когда Екатерина Ивановна через полтора месяца предложила ребятам пойти на кладбище, кто-то спросил:
– А зачем?
Она сбивчиво стала говорить о том, что надо отдать последний долг товарищу, о том, что человек должен помнить близких. Подростки слушали, молчали. И это молчание было непонятным, точно оно протестовало против всего того, что говорила учительница..
На кладбище пришли четыре девчонки, у всех остальных ребят были уважительные причины: уроки музыки, секции, кружки.
А еще была и такая сцена…
Комсорг Вера Синичкина пришла на стадион, где собралась мужская половина класса играть в футбол.
– Ребята, – обратилась Синичкина, – Екатерина Ивановна зовет всех: надо на кладбище ехать.
– А белые простыни приготовили? – бросил кто-то из ребят.
– Нам рано еще на кладбище, – сказал другой.
– Скажи, что мы позже подъедем, – сказал третий. – Вообще, что-нибудь скажи ей…
…Четыре девочки, учительница и Сашкина мать стояли молча на кладбище, в смятении, в тишине. И Екатерина Ивановна крепко сжимала руку Сашкиной матери и все время твердила: «Держитесь же, держитесь…» И Сашкина мать держалась как могла.
И здесь Екатерина Ивановна, это она потом поняла, вела себя не так, как надо. Она загоняла боль вовнутрь. Она не дала ни себе, ни детям выплакаться очистительными слезами, открыто и свободно излить свое горе на Сашкиной могиле, а может быть, сказать какие-то добрые слова о нем.
Потом, много дней спустя, Екатерина Ивановна признается с отчаянием и возмущением: «И мне, старой дуре, осталось жить-то сколько… Так зачем же я должна лгать себе, другим? Почему не могу признаться и сказать всем: да, мы тоже виноваты в его смерти». Скажет это у себя дома, а на следующий день, уже в школе, будто забудет о сказанном: захлестнет ее волна новых дел, забот, неувязок.
А после того памятного дня на кладбище пришла она в свой класс, и пристально заглядывала ребятам в глаза (виноватость искала!), и молчала, а вот заговорить о самом случае нравственного «ЧП» не смогла.
7. Сострадание, сочувствие, сопереживание – это то, без чего не может быть педагогики Любви и Свободы
На Сашкиной могиле еще нет ни памятника, ни ограды. Глиняный холмик чуть-чуть взялся подсохшей коркой. У торца холмика табличка с портретом. На ней свежей краской написано: «Саша Пушнин. 1964–1978 гг.» Сашка смеется с фотографии, будто нет и не должно быть печали на этой весенней земле. А рядом, сливаясь с небесной синевой, ажурная зыбь оживших берез, кружевные наряды рябины, сирени. Крохотные листочки вибрируют, поблескивая нежной клейкостью.
Здесь, видя все это, я ощущаю тревогу за тех ребят, одноклассников Сашки, так быстро забывших его. Ведь они наверняка не смогут вырасти полноценными людьми. Впрочем, не совсем так. Все, видимо, намного сложнее. Их «забывчивость», будто запыленный хлам, прикрыла вдруг чистый родничок детской нравственности. И только духовно-нравственным прикосновением другой человеческой души можно снять вдруг выросшее холодное безразличие, нравственную инертность.