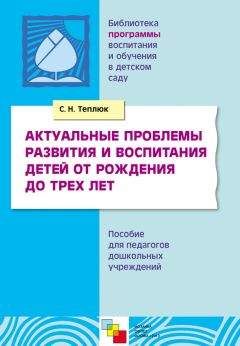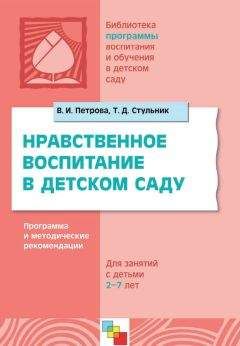Юрий Азаров - Семейная педагогика
– А почему у Меркулова тапочки с дырками?
– Какие тапочки? – всполошусь я.
– А у него вроде бы как носки или сапоги, только без подметок, и все пальцы видны. А все остальные босиком…
«Неужели, – думаю я, – он все время рассматривал, кто во что обут?» А я действительно не замечал до этого, что все босые, а Меркурий в дырявых сапогах. И в самом деле, я смотрю на репродукции и вижу, что Меркурий в обуви, и говорю Ване Золотых, что это обувь была такая, и что он не босой совсем, что есть и подметка под ступней, но ее не видно.
– В том-то и дело, – говорит Ваня. – Нет подметок. Я долго смотрел.
Я снова пытаюсь увидеть низ обуви, и не вижу, и в конце концов говорю Ване:
– Да разве в этом дело!
Ваня глядит на меня, а я на него, и он при своем «Нет подметок», и глаз своих не сводит с меня.
5. В приземленности детского восприятия, в неприхотливом здравом смысле ребенка таится истинная народность, которую нужно оберегать и всячески развертывать
А потом я долго и мучительно думал, и мне казалось, что я подхожу к своим педагогическим открытиям. Тапочки Меркурия долго не выходили у меня из головы. И то, как отвратительно повел я себя в разговоре с Ваней Золотых. Мне бы тогда, пусть даже в этом случае с «Примаверой», восхититься наблюдательностью Вани, приостановить движение моего самолюбования, унять фонтан превосходства и сказать:
«Ах, как здорово! Я десять лет смотрю на эту репродукцию и ни разу не замечал, что только Меркурий одет в сандалии, а Ваня заметил, до чего глаз точный у Вани».
И насторожились бы глаза у других ребят (всерьез ли говорит учитель или издевается?), приподнялись бы ушки, как у кроликов, и стал бы каждый выискивать то, чего нет или едва заметно в картине:
«А что за узор на одежде Меркурия? Это языки пламени? Это цветы?»
«А это одежда? Это тога!»
«А язычки пламени опущены почему-то вниз».
«Да, точно перевернуты! Это тоже что-то значит?»
«Конечно, значит…» (Идет новое пояснение.)
«А сплетенные руки граций напоминают цветок…»
«А Брюсов вот пишет, обращаясь к Боттичелли: "Руки в знаке креста подняты"».
«А что значит вот этот вопрос поэта: "Возложил Сандро Боттичелли картины свои на костер?"»
«А это обращение к нему: "Ты ль решил, чтоб слезой черно-палевой /Оплывала Венер нагота, /А народ, продолжая опаливать /Соблазн сатаны, хохотал?" Что же, Боттичелли был безразличен к кострам инквизиции?»
«А почему к нему не было претензий ни со стороны Савонаролы, ни со стороны его противников? Что же, и инквизиция была им довольна?»
«А что, красота и дым костров совместимы?»
… Конечно же, я рассказывал и о кострах, и о Брюсове, и об исканиях русской интеллигенции, и о палачестве Ренессанса, и о возрождении идеалов Красоты. Но в моем рассказе не было той основы, которая бы скрепила мое настроение с детской ясностью. И я убежден теперь, что вопрос Вани Золотых о тапочках был самым великим достижением моим, которое я опрокинул своей пренебрежительной самовлюбленностью.
… Всматриваясь в сегодняшнюю жизнь подростков, невольно отмечаешь и такую особенность: острый интерес молодежи к искусству, к политике, к глобальным вопросам бытия. Я вовсе не противоречу себе. Детей, выбившихся из нормальной колеи, не более четырех процентов. Это тоже очень много. Но каковы дети из оставшихся девяноста шести процентов? Могу с уверенностью сказать, что тридцать процентов из них – дети не просто одаренные и трудолюбивые, но это и личности, хорошо представляющие то, как они будут жить дальше, как будут воспитывать своих детей, как будут строить свои семьи. Чего недостает сегодня этим детям? Трудовой закалки, способности длительное время выполнять ту однообразную нетворческую работу, которая вырабатывает и характер, и практическую цепкость, и целеустремленность. Каков самый серьезный их недостаток? Лень, ведущая к иждивенчеству, к излишней мечтательности, к утрате своих дарований, способностей.
Каковы оставшиеся шестьдесят шесть процентов? Это дети, главный порок которых составляет так называемая конформность. Делают все, что скажут папа и мама, учитель и товарищи. Верят газетам и книгам. Безропотно подчиняются любым внешним требованиям. Надеются, что в жизни все образуется само собой, поэтому не надо суетиться, усердствовать. Надо брать от жизни все, что можно взять.
Основной их порок – лень, возведенная в квадрат. От нее вялость и апатия, безразличие к духовным ценностям. Что делать родителям с этими детьми? Признать надо с совместного решения: так жить больше нельзя. И искать вместе резервы: сокращать сон, вводить разнообразный труд, разрабатывать с ребенком кратковременные и долгосрочные программы. Конечно же, я условно называю совместную разумную деятельность «программой». Так вот, разрабатывая направления совместных поисков, надо быть мягким и доверчивым, уважительным и любящим, ибо с помощью авторитарных приемов (насилие, приказ и пр.) можно лишь сломать личность и потерять навсегда свое чадо.
Глава 6 Индивидуальная работа
1. В подростковом возрасте потребность Любви и Свободы обостряется
Это обострение порождает стыдливость и обидчивость, которые могут стать серьезной преградой для воссоздания в каждом подростке большой культуры и большой веры в свою самобытность и неповторимость.
Любое искреннее движение детской души – это уже гениальное побуждение. Это робкое побуждение души моего ученика Вани Золотых выразило не просто первую потребность узнавания, но и соединило робкую детскую душу с душой большого художника. Этот крохотный вопросик, как клапан, приоткрывал мир человека, мир его ценностей, он будто расчищал место для новых ценностей. Это принципиально важно: в этом суть педагогики, суть вопроса, от чего идти: от первичных потребностей, доступно постижимых и осязаемо-живых, или от абстракций, отвлеченных и загадочных, до полного мрака и неведения? Потребность и должна привести к тому великому, мучительному поиску познания, без которого не может быть души человеческой. И путь здесь один – не приобщение к культуре, а воссоздание культуры в каждом человечке, в каждой индивидуальности через мир первичных потребностей, через иерархию доступно постижимых ценностей, в основании которой должны быть, образно говоря, тапочки Меркурия!
Позднее я прочту у Крупской о симбирском инспекторе Ульянове, который, увидев детское сочинение, оцененное самым низким баллом, переправил оценку на самую высокую. В этом сочинении ребенок писал о самом для себя интересном, что инспектор (Ульянов) такой большой, а не может говорить «р»: вместо «гривенник» говорит «г'ивенник». Этот «г'ивенник» – те же тапочки Меркурия, та же непосредственность, та же великая простота, которая лежит в основании и нравственного чувства. Тогда, в мой первый соленгинский год, я этого не понимал. И другое – может быть, поважнее этой самой чисто методической тонкости.
Первое время я упивался своими открытиями. Мне казалось, что я нашел способ тончайшего прикосновения к детским душам. Мне казалось, если я вхожу в духовный мир ребенка через искусство, если внутренне принимают меня, то и результат моего влияния неизбежно становится положительным.
И только много позднее мне вспомнились иезуиты. Те самые профессиональные иезуиты, которые что угодно превращали в средства: людей, искусство, ценности. В одно какое-то мгновение мне показались чудовищными те интонации, в которых была подана мною нежная вибрация чувств Меркурия и трех граций. Неожиданно я поставил себя на место моих «Меркуриев» и «граций».
2. В подростковом возрасте чувственная любовь и то, что именуется ранней сексуальностью, должны соединиться с духовными началами
Здесь необходима педагогика отцовства и материнства, педагогика безнасильственного раскрепощения физических и духовных сил подростка. В триаде «душа, тело, дух» первенство принадлежит Духу. Высокий Дух – это и есть высокая Любовь и высокая Свобода.
Вспомнилась мне моя собственная мучительная страсть, когда я бывал в семье моей дальней родственницы Серафимы Павловны. Характер моих отношений с двумя ее дочерьми Катей и Розой был для меня странным. В своих чувствах к ним я не мог разобраться. Неясным было и их отношение ко мне. Совершенно сбивало с толку одно обстоятельство.
Катя меня не любила, это уж точно. Но она места не находила, когда я отдавал предпочтение старшей сестре. Даже когда я рассказывал сказки крохотной Маринке, Катя неистовствовала.
Роза была добрее своей сестры, но всякий раз, как я оставался наедине с Катей, бросала в мой адрес шпильки, которые, казалось, должны были о чем-то напомнить мне…
Катю я любил больше. Точнее, Катю я любил совсем по-другому, скорее по-настоящему. А Роза будила во мне стремительно-упругие силы, которые пьянили мое тело, оставляя в покое душу. Может, такое получалось потому, что однажды я увидел Розу обнаженной. И не то чтобы обнаженной. То, что я увидел, меня настолько ошеломило, что мои представления о женских тайнах перевернулись вверх дном. Я вошел в летнюю кухоньку. Роза мыла голову над тазом. Дверь от печки была раскрыта, и красные угли пылали теплом. Роза стояла чуть боком ко мне и протягивала за чем-то руку. Свет от окна ласкал ее грудь, – будто стекавшую в блестящую пену. Я стоял, пораженный этим чудом, а Роза все тянула руку, очевидно чего-то ожидая, и глаза ее были крепко зажмурены. А я не мог сдвинуться с места, пока не показалась моя мама, – она отшвырнула меня в сторону, в коридор отшвырнула, чтоб духу моего здесь не было…