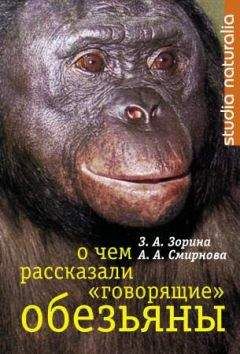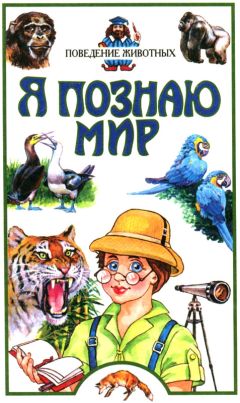Анна Смирнова - О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами?
А. Н. Северцов об эволюции психики
Взгляды Дарвина поддерживали и развивали многие биологи-эволюционисты. Так, выдающийся русский биолог Алексей Николаевич Северцов (1866–1936) посвятил проблеме эволюции психики работу, которая была и остается одной из основополагающих в этой области. В этой небольшой брошюре, которая так и называется «Эволюция и психика», А. Н. Северцов (1922) проанализировал основные способы приспособления организмов к изменениям окружающих условий.
Особую роль он отводил изменениям поведения, которое он рассматривал как мощный фактор эволюции. В работах Северцова предвосхищены многие положения более поздних работ этологов. Не рассматривая его взгляды подробно, укажем только, что, согласно Северцову, у высших позвоночных наряду с рефлексами и инстинктами широко представлена и деятельность «разумного типа». В наиболее простой, «низшей» форме – это условные рефлексы. У более высокоорганизованных животных эта категория поведения «сильно усложняется, приближаясь к действиям, которые у человека обозначаются как произвольные и разумные». Северцов подчеркивает, что в отличие от инстинктов и рефлексов в этом случае наследственными признаками являются не сами действия как таковые, «а только некоторая высота психической организации (способности к установке новых ассоциаций)» (Северцов 1922, с. 46; здесь и далее курсив наш. – З. З., А. С.).
С биологической точки зрения, как пишет Северцов, этот фактор («разумное поведение») чрезвычайно важен, поскольку он очень сильно повышает возможность адаптации к быстрым изменениям среды. При эволюции этого способа приспособления у животных не происходит видоизменения тех или иных определенных реакций организма, а увеличиваются потенциальные способности к осуществлению быстрых адаптивных действий. Северцов называет такие способности «потенциальной психикой», или «запасным умом» (с. 44). Разумеется, процесс эволюционных изменений, приводящих к созданию «потенциальной психики», идет, как и в случае других признаков, очень медленно. Отметим, однако, что под «разумным поведением» при этом понимался все-таки не только собственно разум животных, не рассудочная деятельность в современном понимании, а некий конгломерат ассоциативных и когнитивных функций в широком смысле.
Из постулата об эволюции способностей к «разумным» действиям логически следует и гипотеза автора о том, что животные с высоким уровнем организации психики, существующие в своей «повседневной жизни» в стабильных, стандартных условиях, не реализуют всех «психических возможностей», на которые они потенциально способны. Косвенным подтверждением этого А. Н. Северцов считал поразительные результаты дрессировки животных, множество примеров которой издавна известно. Впрочем, других примеров он привести и не мог, потому что в период написания этой работы только появлялись первые экспериментальные доказательства того, что помимо способности к обучению животные обладают и некоторыми формами мышления (данные В. Келера о способности шимпанзе к инсайту при добывании приманки с помощью орудий и Н. Н. Ладыгиной-Котс о способности шимпанзе к обобщению).
Представления А. Н. Северцова о наличии у животных «потенциальной психики» получают все новые подтверждения. С усложнением методов исследования поведения и психики высших животных открываются все новые их стороны, а оценки уровня когнитивных способностей многих видов существенно дополняются. Во второй половине ХХ века животным в экспериментах стали предлагать все более сложные задачи. Это позволило выявить у многих из них чрезвычайно сложные когнитивные функции, намного превосходящие (по крайней мере, на первый взгляд) реальные потребности особей в естественных условиях обитания данного вида. К наиболее показательным примерам (этого) такого типа и относится освоение шимпанзе языков-посредников (пусть даже примитивных), о котором пойдет речь в этой книге. Уровень общения с человеком и сородичами, который обнаружили «говорящие» обезьяны, неизмеримо превосходит возможности их видоспецифичной коммуникации. Да и способности шимпанзе, выявляемые во многих лабораторных тестах (например, овладение числительными), настолько выходят за рамки их обычного поведения, что их нельзя не отнести к проявлениям «потенциальной психики».
Таким образом, взгляды А. Н. Северцова на эволюцию психики опередили время и выглядят вполне современными и сегодня, давая ключ к трактовке новых данных.
А. Н. Леонтьев о стадиях эволюции психики
Кратко рассмотрев основные представления классиков-эволюционистов о принципах эволюции поведения, о возможных биологических корнях мышления и речи, обратимся теперь к классическим представлениям физиологии и психологии об их природе и происхождении.
Согласно взглядам выдающегося отечественного психолога Алексея Николаевича Леонтьева (1903–1979), впервые опубликованным еще в 1952 году (см. Леонтьев 1981), эволюция психики составляет часть общего процесса эволюции животного мира, и совершалась она по тем же самым законам. Повышение общего уровня жизнедеятельности организмов, усложнение их взаимоотношений с внешним миром приводило к необходимости все более совершенного психического отражения – ориентации во времени и пространстве.
А. Н. Леонтьев использовал два главных критерия – содержание отражения и структура деятельности. Рассматривая психику животных разного уровня филогенетического развития в свете этих двух критериев, он описал наиболее глубокие качественные изменения, которые она претерпела в процессе эволюции (животного мира), и выделил четыре основных стадии ее развития (сенсорная, перцептивная, интеллект, сознание). Высшей стадией развития психики у животных Леонтьев считал третью – стадию интеллекта. Следует напомнить, что интеллект – понятие достаточно широкое. Его квалифицируют как общую познавательную (когнитивную) способность, определяющую готовность к усвоению и использованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в проблемных ситуациях. Вместе с тем существует и более узкое значение понятия «интеллект». Согласно определению А. Н. Леонтьева (1981, с. 258), он характеризуется тем, что «возникает отражение не только отдельных вещей, но и их отношений (ситуаций) <…> отношения между предметами теперь обобщаются и начинают отражаться в форме наглядных предметных ситуаций». По его представлению, «стадии интеллекта» достигает только психика высших животных, главным образом антропоидов. Основной критерий – перенос решения задачи в другие условия, лишь сходные с теми, в которых оно впервые возникло, и объединение в единую деятельность двух отдельных операций – решение двухфазных задач. Леонтьев особо подчеркивал важность второго положения, т. к. уже было известно, что способность к «переносу» навыков свойственна также и животным, находящимся на более низких ступенях развития, тогда как упомянутая «двухфазность» присуща только деятельности высокоорганизованного животного на стадии интеллекта. Комментируя некоторые опыты с шимпанзе, А. Н. Леонтьев пишет: «Нужно раньше достать палку, потом достать плод. <…> Само по себе доставание палки приводит к овладению палкой, а не привлекающим животное плодом. Однако это только первая фаза. Вне связи со следующей фазой она лишена биологического смысла. Это есть фаза подготовления» (с. 259).
«Наличие фазы подготовления и составляет характерную черту интеллектуального поведения. Интеллект возникает, следовательно, впервые там, где возникает процесс подготовления возможности осуществить ту или иную операцию или навык». Отличие двухфазной деятельности состоит в том, что «новые условия вызывают у животного уже не просто пробующие движения, но пробы различных прежде выработавшихся способов, операций» (с. 258).
Этот критерий оказывается очень конструктивным и информативным способом анализа сложных проявлений поведения и психики животных. Способность к мысленному планированию действий, включая определение и достижение промежуточных целей, действительно, как мы покажем далее, характерна и для орудийной деятельности антропоидов, и для многих аспектов их социальных отношений, включая те, где они пользуются языками-посредниками. Эти способности проявляются и в наиболее известных эпизодах применения орудий у шимпанзе: при тушении огня в опытах, поставленных в Колтушах еще при жизни И. П. Павлова; в поведении шимпанзе, идущего в лес за такой палкой, которая нужна для открывания ящика с приманкой (Фирсов 1977), или в применении целой серии подготовительных действий, для того чтобы достать находящиеся вдали от вольеры ключи и, открыв с их помощью замок, выбраться наружу, как это сделали шимпанзе Лада и Нева в лаборатории Л. А. Фирсова (1987). Именно благодаря этой способности антропоиды решают одну и ту же задачу многими способами.