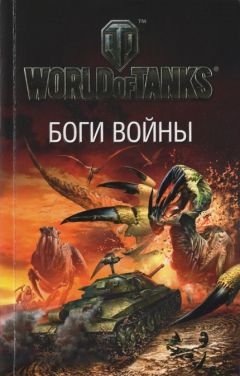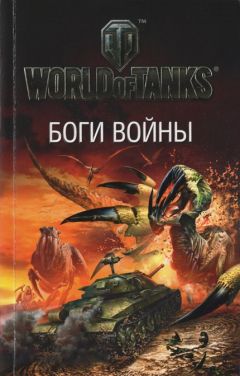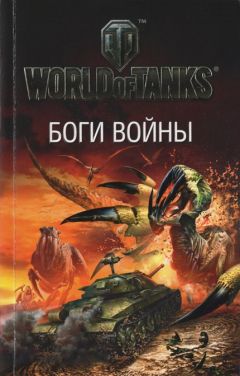Мэтт Ридли - Секс и эволюция человеческой природы
Половой процесс — это рекомбинация и скрещивание одновременно. И, главное, во время него происходит перетасовка генов. В ребенке объединяются (путем скрещивания родителей) тщательно перемешанные (путем рекомбинации) гены его двух дедушек и двух бабушек. Рекомбинация и скрещивание — ключевые моменты полового размножения, а все остальное — двуполость, выбор партнера, избегание инцеста[11], полигамия, любовь, ревность и т. п. — способы сделать скрещивание и рекомбинацию более эффективными или более точными.
Если половым процессом называть механизм перетасовки генов двух особей, то сама репродукция в такой формулировке оказываются к нему никак не привязана. Организм может обмениваться генами с другим организмом на любой стадии жизни, независимо от момента размножения. Бактерии сцепляются друг с другом, как бомбардировщики с самолетами-заправщиками, передают через специальную трубку некоторое количество генетического материала и расходятся в разные стороны. Размножаются они независимо от этого процесса — простым делением{15}.
Итак, половой процесс — это перемешивание генов. Вот только непонятно, зачем оно вообще понадобилось. С распространенной в XX веке наиболее ортодоксальной позиции, благодаря нему возникает генетическое разнообразие, материал для естественного отбора. Перемешивание не изменяет сами гены (даже Вейсман, ничего не знавший о генах и говоривший вместо них о каких-то «идах», это отлично понимал), а складывает их в новые комбинации. Половой процесс — это свободная торговля удачными генетическими изобретениями. Он существенно увеличивает шансы последних на распространение по всему виду, который, благодаря этому, будет быстрее эволюционировать. Вейсман назвал половой процесс «источником индивидуальной вариабельности, дающим материал для естественного отбора»{16}.
Грэхем Белл (Graham Bell), монреальский биолог британского происхождения, назвал эту точку зрения гипотезой «викария из Брэя» — в честь вымышленного священника, жившего в XVI веке и демонстрировавшего выдающуюся способность адаптироваться к изменяющимся религиозным веяниям, со сменой монарха переходя из протестантства в католичество и обратно. Подобно ему, животные, размножающиеся половым путем, быстро адаптируются к изменениям. Гипотеза «викария из Брэя» превалировала почти целый век, да и сегодня еще жива в учебниках по биологии. Трудно указать точный момент, когда она впервые была поставлена под сомнение. Некоторые вопросы возникли уже к 1920-м годам. Биологи стали осознавать, что в логике Вейсмана имеется серьезный изъян: она видит эволюцию как некий императив — будто бы в эволюционировании и состоит смысл существования вида{17}.
Это, конечно, полная ерунда. Непосредственными участниками эволюции являются отдельные организмы, а не виды. Она — процесс ненаправленный, эволюционирующие организмы следующего поколения могут оказаться сложнее нынешнего, проще, или вообще не измениться. Мы настолько зациклились на идее совершенствования, что от нее удивительно трудно отказаться. Но ведь никто не додумается сказать целаканту, выглядящему так же, как и 300 миллионов лет назад, что, «не эволюционируя», он нарушил какой-то закон. Может быть, кто-то считает его «неудачной попыткой» природы — только потому, что он эволюционировал недостаточно быстро и из него не получился человек? Как заметил Дарвин, человечество грубо вмешалось в эволюцию и ускорило ее, произведя сотни пород собак (от чихуахуа до сенбернаров) — эволюционно говоря, за мгновение ока. Одного этого уже достаточно, чтобы понять: эволюция идет не так быстро, как могла бы. Целакант — как раз очень удачная модель. Настолько удачная, что он остался таким же, каким был сотни миллионов лет назад, и его «конструкция» продолжает существовать без изменений, как «Фольксваген-жук». Эволюционирование — не самоцель, а средство для решения текущих задач.
Тем не менее последователи Вейсмана — в особенности, сэр Рональд Фишер (Ronald Fisher) и Герман Мюллер (Hermann Müller) — не избежали телеологической[12] ловушки: веры в самоцель эволюции. Опасно подойдя к заявлению о предопределенности последней, они считали эволюционирование главным смыслом существования живых организмов. Обогатив аргументы Вейсмана концепцией гена, Фишер (в 1930 году){18} и Мюллер (в 1932 году){19} выдвинули, на первый взгляд, железобетонные доводы, объясняющие эволюционное преимущество полового размножения над бесполым. Второй из них даже осмелился объявить, что новая генетическая наука полностью решила проблему. Вот его аргументы. У видов с половым размножением особи обмениваются вновь возникшими генами между собой, у бесполых — нет. Первые похожи на группу изобретателей, работающих вместе. Если один придумал паровой двигатель, а другой — железную дорогу, то осталось только сложить эти идеи вместе. Бесполые же подобны изобретателям-одиночкам, которые никогда не делятся своими знаниями, и в их мире паровые локомотивы буксуют на обычных дорогах, а лошади таскают телеги по железным.
В 1965 году Джеймс Кроу (James Crow) и Моту Кимура (Motoo Kimura) дополнили логику Фишера-Мюллера, продемонстрировав с помощью математических моделей, как у видов, размножающихся половым путем (в отличие от бесполых), в одном организме могут встретиться редкие мутации — за счет комбинаторики полового процесса. Таким видам не приходится ждать совпадения двух редких событий в одном и том же индивиде, они могут комбинировать мутации из разных особей. В случаях, когда популяция состоит хотя бы из тысячи особей, это, по словам авторов, дает видам с половым размножением преимущество над бесполыми. Отлично! Этот процесс оказался ускорителем эволюции, что математики неплохо и обосновали. Казалось бы, дело можно закрывать{20}.
Человек, враг человека
Все так бы и осталось, если бы на несколько лет раньше, в 1962 году, шотландский биолог В. К. Уинн-Эдвардс (V. С. Wynne-Edwards) не опубликовал внушительную книгу, сыгравшую во всей этой истории критическую роль. Он оказал биологии огромную услугу, разоблачив чудовищное заблуждение, систематически поражавшее эволюционную теорию в самое сердце еще со времен Дарвина. Интересно, что сам он вовсе не собирался этого делать, поскольку, напротив, был абсолютно уверен в верности этого заблуждения, которое, однако, именно ему было суждено впервые вытащить на свет.
Его во всей красе демонстрируют многие дилетанты — когда пытаются рассуждать об эволюции. Часто мы небрежно замечаем, что эволюция — это вопрос «выживания вида». И представляем себе, что это виды конкурируют друг с другом, что дарвиновская «борьба за существование» шла между динозаврами и млекопитающими, между кроликами и лисами или между современными людьми и неандертальцами. Мы ощущаем аналогию с государствами и футбольными командами: Германия против Франции, хозяева против гостей.
Дарвин тоже заехал в эту логическую колею: сам подзаголовок «Происхождения видов» ссылается на «выживание наиболее приспособленных рас»{21}. Но Дарвин все равно концентрирует главное внимание на особи, а не на виде. Любой индивид уникален, и некоторые выживают лучше других, процветают и оставляют больше потомства. И если их особенности наследуются, то постепенное изменение вида неизбежно. Позже идеи Дарвина были объединены с открытиями Грегора Менделя (Gregor Mendel), показавшего, что наследуемые признаки передаются в дискретных упаковках, которые позже стали известны под названием генов. Сложилась теория, которая могла объяснить, как новые мутации в генах распространяются по всему виду.
Но в ее основе лежала — до поры скрытно — одна большая проблема: когда наиболее приспособленные борются за существование, то с кем они конкурируют? С другими представителями своего вида или с другими видами?
Африканская газель не хочет попасть на обед гепарду, и когда тот нападает, она старается обогнать других газелей. Да, бежать не быстрее гепарда, а всего лишь быстрее какой-нибудь другой газели. (Есть старая история о том, как два друга убегают от медведя. Пессимистично настроенный товарищ говорит: «Это бесполезно, ты никогда не сможешь бежать быстрее медведя». — «А мне и не нужно, — отвечает второй. — Я должен обогнать только тебя»). Психологи, порой, не понимают, почему мы вообще способны выучись кусок из «Гамлета» или понять интегральное исчисление, хотя ни одно из этих умений не было востребовано в примитивных условиях, в которых формировался наш интеллект. Эйнштейн, как и любой другой современный человек, был бы поставлен в тупик, если бы ему нужно было поймать шерстистого носорога. Николас Хэмфри (Nicholas Humphrey), кембриджский психолог, первым ясно увидел решение этой загадки: мы используем наш интеллект не для решения практических задач, а для того, чтобы перехитрить друг друга. Обмануть, раскусить обман, понять мотивы другого человека, манипулировать им — вот для чего он нам нужен. Поэтому имеет значение не то, насколько вы умны и хитры, а то, насколько вы умнее и хитрее других людей. Нет пределов росту нашего интеллекта. Внутривидовой отбор всегда важнее, чем межвидовой{22}.