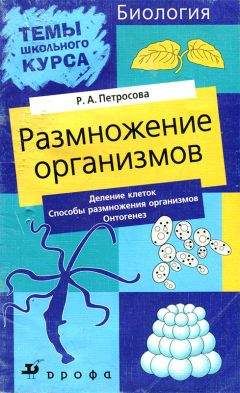Секс с учеными: Половое размножение и другие загадки биологии - Алексенко Алексей
Ух, как далеко мы отошли от основной линии рассказа… Модель Холлидея не объясняла многих важных фактов, и ей на смену пришла модель Мезельсона – Реддинга, которая была уже не такой красивой и симметричной и при этом все равно не объясняла многих важных фактов. Именно ее я учил к экзаменам. Наконец, в 1983 году вышла статья, в которой была представлена модель, более или менее соответствующая действительности. Ее авторы – сплошные корифеи, а на первой позиции в списке стоит Джек Шостак (род. 1952), будущий нобелевский лауреат. Нобелевку он получил не за модель рекомбинации, а за открытие теломеразы, причем после теломеразы он еще внес изрядный вклад в проблему происхождения жизни и гипотезу РНК-мира. Но и модель рекомбинации, описанная в статье, тоже далеко не пустяк в истории науки.
Ее отличие от всех прочих моделей вот в чем. Если мы посмотрим на модель Холлидея, там все начинается с одноцепочечных разрывов, появляющихся в одинаковых местах двух молекул ДНК. В следующих моделях разрыв был по-прежнему одноцепочечный, хотя и всего один, потому что непонятно, с чего бы двум молекулам рваться симметричным образом, когда они еще не знают, что они одинаковые. А в этой новой модели разрыв был двойной! Одна из молекул просто рвалась на два куска, да еще и эти куски сразу начинал подъедать с концов специальный фермент. В результате в той молекуле ДНК, которая выступала зачинщиком рекомбинации, появлялась огромная дыра, а длинный одноцепочечный хвост, который фермент оставлял несъеденным, начинал метаться по клетке, встревать в середину других ДНК и проверять, нет ли там гомологии. А когда она была – происходили последующие события, в том числе и образование структуры Холлидея. На странице 306 представлена схема этого процесса – опять же просто чтобы полюбоваться, насколько она менее красива и более сложна, чем думали вначале. Она называется «Модель починки двойного разрыва».
Когда все налюбуются картинкой, все-таки обратим внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, исход авантюры зависит от того, как будут разрезаны структуры Холлидея. При одной конфигурации разреза молекулы ДНК меняются флангами, то есть рекомбинируют все гены, лежащие справа и слева от точки разрыва. В альтернативном варианте изменения касаются только небольшой области неподалеку от точки разрыва, а фланги остаются на месте. Более того, починка двойного разрыва может происходить и без всяких структур Холлидея: дырка в ДНК просто заштопывается по образцу гомологичной молекулы, и они расходятся восвояси.
Во-вторых, те цепочки ДНК, которые получаются на выходе, на некоторых отрезках полностью окрашены светлым, а кое-где светлыми оказываются три цепи из четырех. Это и есть объяснение всех разнообразных вариантов генной конверсии, которые наблюдались в тетрадах грибных спор: неподалеку от точки кроссинговера часть генетической информации одного из партнеров теряется.
В-третьих, на картинке видно, что теряются всегда гены той молекулы, которая и затеяла весь процесс, причем она вступает в него уже изрядно потрепанной – с большой дырой посередине. Зачем ей это нужно? Последовательности ДНК не любят теряться, их за это отбраковывает отбор. Однако игра стоит свеч, если в молекуле изначально был дефект – например, одна из букв-оснований оказалось подпорченной и ее пришлось вырезать как раз с образованием двойного разрыва. Единственный вариант спасения – залатать дырку по образцу похожей молекулы.
А с чего бы возник этот дефект? Ну, например, в результате прямого попадания заряженной частицы, то есть под воздействием радиации.
Итак, одноцепочечный хвост несчастной изуродованной молекулы ДНК мечется по клетке в поисках партнера. Ему помогает в этом некий белок, который облепляет этот самый хвост со всех сторон. Это и есть тот самый белок, у бактерии кишечной палочки называющийся RecA и который наш преподаватель иначе как «таинственным» не называл. Rec – это от слова «рекомбинация»: бактерии-мутанты по гену этого белка не умеют заниматься рекомбинацией, даже когда все остальные компоненты на месте. Очень похожий белок обнаружили и у высших организмов (сначала у дрожжей, а потом и прочих, включая нас с вами), и называется он RAD51. RAD – это уже от слова «радиация»: мутанты по гену этого белка оказываются к ней очень чувствительны, потому что не умеют залатывать повреждения своей ДНК. Есть он и у архей, и там он тоже называется RAD. А вот у нашего старого знакомого аспергилла имя этого белка – UvsC, и это означает «чувствительность к ультрафиолету». Это значит, что механизм рекомбинации, о котором мы сейчас толкуем, немыслимо древний и фундаментальный: им для разных надобностей пользуются абсолютно все ветви жизни на Земле.
Один и тот же белок называется по-разному оттого, что у разных организмов мутации в нем отбирали разными способами, но суть-то одна: если отключить RecA, он же RAD51, он же UvsC, клетка теряет способность к рекомбинации, а заодно становится очень чувствительной к самым разным воздействиям, способным повреждать ДНК. Значит, рекомбинация помогает как-то противостоять этой напасти. А помогает она так: когда одноцепочечный хвост найдет партнера, все те части молекулы, которые были удалены на первой стадии, начинают восстанавливаться по образцу гомологичной молекулы. В результате этих пертурбаций обе молекулы становятся как новенькие. Побочный результат – обмен фланговыми частями вместе со всеми генами, которые там находились. То есть, собственно говоря, кроссинговер.
Тот факт, что в некоторых случаях Rec = RAD, – то есть механизмы рекомбинации и устойчивость организмов к радиоактивному излучению имеют много общего, – сыграл важную роль в истории науки. Им объясняется огромный энтузиазм, с которым рекомбинацию изучали именно в период холодной войны, когда все оживленно готовились к появлению ядерного гриба и радиоактивного пепла. В изучение этих механизмов вкладывались немалые деньги, предназначенные на оборонные исследования. Возможно, именно благодаря этим деньгам сравнительно быстро удалось в общих чертах разобраться в интимных подробностях рекомбинации. Ученые-то с самого начала понимали, что рекомбинация сама по себе есть очень фундаментальное свойство жизни, но, когда просишь денег на исследования, не грех упомянуть о перспективах создания «лекарства от радиации» для солдат будущей Третьей мировой. И неспроста нам, студентам очень оборонно-ориентированного вуза МИФИ, лекции по всем биологическим специальностям читали ученые, которые в тот или иной период своей карьеры занимались тем, как живая материя взаимодействует с радиацией. Другое дело, что военным в итоге не было пользы от этих штудий, зато была польза для фундаментальной науки.
И вот еще кому была польза: врачам и их пациентам. Белку RAD51 (он же таинственный RecA) у людей помогают два интересных белка, BRCA1 и BRCA2. Они тоже в нужный момент оказываются там, на отчаянно ищущем помощи одноцепочечном хвосте ДНК. Их названия происходят от слов Breast Cancer – рак груди, потому что мутации в соответствующих генах сильно повышают вероятность этой напасти. Именно из-за таких мутаций прекрасная Анджелина Джоли решила сделать себе профилактическую мастэктомию. Отметим для себя, что, раз небольшие дефекты этих белков чреваты столь серьезными последствиями, значит, рекомбинация не игрушка и живому организму жизненно важно, чтобы там все прошло правильно. Причем важно не только в контексте секса и размножения, но и для повседневной жизни обычного соматического органа [16].
Напрашивается фундаментальный вопрос, который останется без ответа. А может, рекомбинация, перетасовывающая гены, в том числе во время мейоза у высших организмов, возникла совсем не за этим? Может быть, это древний механизм ремонта повреждений, который гораздо позже был привлечен к новой работе: создавать разные комбинации генов и избавляться от мутационного груза (впрочем, мутационный груз и сам имеет прямое отношение к повреждениям ДНК)?