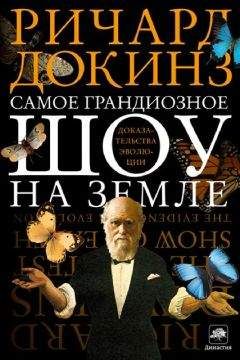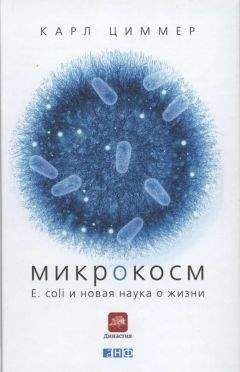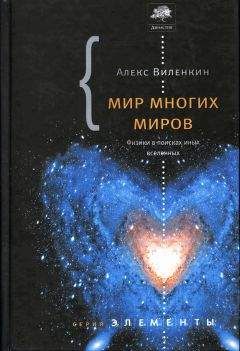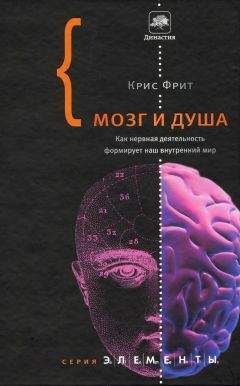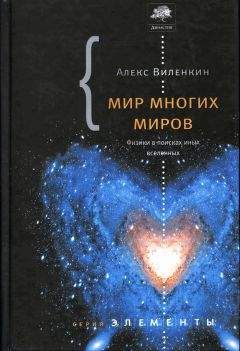Ричард Докинз - Расширенный Фенотип: длинная рука гена
А на противоположной стороне данного континуума полиморфизм среди особей отсутствует. В стабильном состоянии все осы выполняют одну и ту же программу, но программа эта сама по себе является смесью. Каждая оса подчиняется инструкции: «Рой с вероятностью р, захватывай с вероятностью 1 —р'» Например: «В 70 процентах случаев — рой, в 30 процентах случаев захватывай». Если «программой» считать это, то, возможно, собственно рытье и захват стоит называть «подпрограммами». Каждая оса оснащена обеими подпрограммами. Она запрограммирована каждый раз выбирать ту или другую с определенной вероятностью р.
И хотя никакого полиморфизма с разделением на копателей и захватчиков здесь нет, нечто математически эквивалентное частотно-зависимому отбору все равно может происходить. Смотрите, как и в предыдущем случае, в популяции имеется некая критическая частота рытья р*, при которой захват приносит столько же «очков», сколько и рытье. То есть р* — это эволюционно стабильное значение вероятности рытья. Если эта стабильная вероятность равна 0,7, то программы, заставляющие ос следовать иным правилам, скажем, «рой с вероятностью 0,75» или «рой с вероятностью 0,65», будут менее успешными. Существует целое семейство «смешанных стратегий» типа «рой с вероятностью р, захватывай с вероятностью 1 —p», и только одна из них является ЭСС.
Сказав, что описанные два варианта являются краями непрерывного спектра, я имел в виду то, что стабильная для популяции частота случаев рытья (70 процентов или любая другая) может быть достигнута посредством огромного количества сочетаний чистых и смешанных индивидуальных стратегий. Возможен широкий разброс значений р в нервных системах образующих данную популяцию особей, в том числе присутствие в ней копателей и захватчиков в чистом виде. Но если общая частота случаев рытья в популяции имеет равновесное значение p*, то по-прежнему справедливо будет утверждать, что рытье и захват одинаково успешны и что в следующем поколении естественный отбор не изменит относительную частоту использования этих двух подпрограмм. Популяция находится в эволюционно стабильном состоянии. Аналогия с теорией Фишера (Fisher, 1930а) о равновесном соотношении полов очевидна.
Но перейдем от умозрительного к реальному. Полученные Брокман данные со всей определенностью показали отсутствие у этих ос какого бы то ни было полиморфизма в обычном смысле слова. Особи то рыли, то захватывали. Нам даже не удалось обнаружить у них какой-либо статистической тенденции специализироваться в одном из двух этих действий. Очевидно, что если данная популяция ос находится в смешанном эволюционно стабильном состоянии, то это состояние сильно удалено от «полиморфного» края континуума. Является ли оно противоположной крайностью, когда все особи выполняют одну и ту же стохастическую программу, или же представляет собой более сложную смесь из чистых и комбинированных индивидуальных стратегий, мы не знаем. Одной из основных идей данной главы является то, что для стоявших перед нами исследовательских задач этого и не нужно было знать. Мы могли создать и протестировать работающую модель смешанной ЭСС, оставив открытым вопрос о том, в какой точке континуума находятся наши осы, поскольку, вместо того чтобы говорить об успехе особи, задумались об успешности подпрограммы в среднем по популяции. Я еще вернусь к этому, только сначала изложу кое-какие необходимые факты и опишу в общих чертах саму модель.
Вырыв норку, оса либо продолжает ею пользоваться и запасает там еду, либо же оставляет ее. Причины для покидания гнезд не всегда понятны, но иногда это происходит из-за вторжения муравьев или других нежелательных визитеров. Когда оса занимает норку, вырытую другой осой, может случиться так, что первый владелец еще «не съехал». Такую осу называют присоединившейся к предыдущей хозяйке, и обычно какое-то время обе осы трудятся над заполнением одной норки, независимо друг от дружки принося в нее кузнечиков. Впрочем, осе-захватчице может и улыбнуться удача в виде норки, уже оставленной предыдущей хозяйкой, — в таком случае она будет пользоваться ею единолично. Факты говорят о том, что вторгающаяся оса неспособна отличить покинутое гнездо от еще занятого. Это не так удивительно, как может показаться, если принять во внимание, что обе осы по большей части пропадают на охоте, и двум «совместно» владеющим гнездом хозяйкам встречаться доводится не часто. Когда же они все-таки встречаются, происходит драка, и всегда только одной из претенденток удается отложить свое яйцо в гнезде, явившемся предметом разногласий.
Что бы ни побуждало первую хозяйку бросать построенное гнездо, обычно это оказывается временным неудобством, и покинутая норка превращается в ценный ресурс, который вскоре начинает использоваться другой осой. Оса, захватывающая уже готовую норку, экономит на расходах, связанных с ее рытьем. С другой стороны, она рискует, поскольку норка может оказаться занятой. Она все еще может принадлежать своей создательнице или быть занята другой захватчицей, пришедшей раньше. В любом из этих случаев вторгающаяся оса подвергает себя большой опасности ввязаться в дорогостоящее сражение и рискует оказаться не той, кому удастся отложить яйцо по окончании затратного периода запасания провизии.
Мы разработали и протестировали математическую модель, где были выделены четыре различных «исхода» или результата, к которым может прийти оса в каждом отдельном случае обзаведения гнездом:
1. Она может быть вынуждена покинуть гнездо — например, из-за нашествия муравьев.
2. Она может до самого конца оставаться одна и владеть гнездом единолично.
3. К ней может присоединиться еще одна оса.
4. Она может присоединиться к уже занимающей гнездо осе.
Исходы 1—з могут быть следствиями изначального решения рыть норку. Исходы 2–4 возможны в случае изначального решения осуществлять захват. Данные, собранные Брокман, дали нам возможность оценить относительный размер «дивидендов» при каждом из этих четырех исходов, исчисляющийся как вероятность откладывания яйца в единицу времени. Например, в одной популяции в Эксетере, штат Нью-Гэмпшир, выигрыш при исходе 4 — «присоединение» — составил 0,35 яйца за 100 часов. Эта цифра была получена как среднее для всех случаев с таким исходом. Чтобы вычислить ее, мы попросту сложили общее число яиц, отложенных осами, которым довелось присоединиться к уже занятым гнездам, и разделили его на все время, потраченное ими на эти гнезда. Соответствующий выигрыш для ос, начинавших в одиночку, к которым впоследствии присоединялась другая оса, составил 1,06 яйца за 100 часов, а для ос, до самого конца единолично распоряжавшихся норкой, 1,93 яйца за 100 часов.
Если бы от осы могло зависеть, каким из четырех исходов кончится дело, она «предпочитала» бы всегда оставаться в одиночестве, так как этот исход сопряжен с наиболее крупным выигрышем. Но как бы ей этого добиться? Ключевым допущением нашей модели было то, что данные четыре исхода не определяются теми решениями, которые оса способна принимать. Оса «решает», рыть или захватывать. Она не может принять решение «присоединить» еще одну осу или остаться одной, как человек не может принять решение не болеть раком. Такие исходы зависят от обстоятельств, не находящихся под контролем индивидуума. В данном случае — от действий других ос из этой популяции. Но как человек может статистически уменьшить свои шансы заболеть раком, приняв решение бросить курить, точно так же и перед осой стоит «задача» принять единственное доступное ей решение — рыть или захватывать — таким образом, чтобы с максимальной вероятностью прийти к желаемому результату. Выражаясь более строго, мы ищем стабильное значение р, такое р* что если в популяции частота всех решений в пользу рытья составляет р* то естественный отбор не будет благоприятствовать никакому мутантному гену, заставляющему придерживаться другого значения р.
Вероятность того, что решение осуществлять захват приведет к какому-либо конкретному исходу — например, желанному «одиночному» — зависит от общей частоты захватов в популяции. Если захваты в ней происходят часто, то количество свободных заброшенных норок понижается и становится больше шансов, что решившаяся на захват оса окажется в невыгодном положении «присоединившейся». Наша модель позволяет нам, взяв любое произвольное значение р — общей частоты случаев рытья в популяции, — предсказать вероятность, с которой в этом случае особь, принявшая решение рыть или захватывать, придет к тому или иному из четырех возможных исходов. Следовательно, для любого соотношения частот рытья и захвата в целом по популяции можно предсказать, каков будет средний выигрыш осы, выбравшей рытье. Для этого просто берутся значения ожидаемых выигрышей при каждом из четырех исходов, затем каждое из них умножается на вероятность достижения соответствующего исхода выбравшей рытье осой, и полученные произведения суммируются. Точно так же можно при любом произвольно выбранном соотношении частот рытья и захвата в популяции произвести аналогичный расчет для осы, выбравшей захват. И наконец, сделав несколько дополнительных правдоподобных допущений, приведенных в оригинальной статье, решаем уравнение и находим такое значение частоты рытья в популяции, при котором средний ожидаемый выигрыш осы, которая роет, в точности равен среднему ожидаемому выигрышу осы, которая захватывает. Это будет теоретически рассчитанная нами равновесная частота, и ее можно сравнить с частотой, наблюдаемой в дикой популяции. Ожидается, что реальная популяция будет либо находиться в точке равновесия, либо эволюционировать по направлению к этой точке. Наша модель позволяет также вычислить, какой процент ос в равновесной популяции будет приходить к каждому из четырех исходов, и эти цифры тоже можно сравнить с данными наблюдений. Модель предсказывает, что равновесие будет стабильным в том смысле, что отклонения от него будут исправляться естественным отбором.