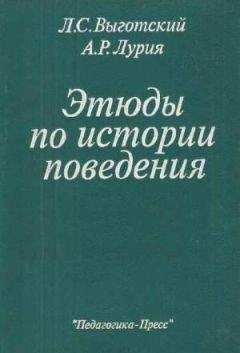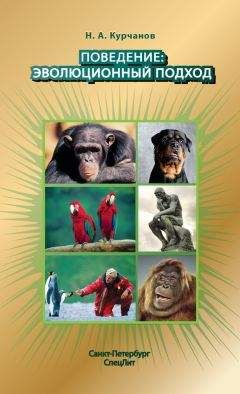Борис Поршнев - О начале человеческой истории
В этом втором взгляде оказался великий соблазн для агенетической науки XX в. Вторая модель предстала теперь в крайнем варианте: отодвинута как несущественная шкала степени развития знаковой коммуникации у животных и человека, привлечена третья группа носителей знаковой коммуникации — внеречевые человеческие условные знаки и сигналы (в пределе — все человеческие «условности»), а там и четвёртая группа — сигналы, какие даёт машина человеку или другой машине. Получилось гигантское обобщение, иногда именуемое семиотикой в широком смысле. Но оно потерпело полный крах, так как оказалось пустым[84]. В сущности это обобщение разоблачило скрытую ошибку, можно сказать, порок естественнонаучного эволюционизма в вопросах языка и речи: под оболочкой ультрасовременной терминологии не удалось удержать то, что так долго таилось под видимостью биологии: антропоморфные иллюзии о психике животных. Именно изучение человеческих знаковых систем и их дериватов (в том числе и «языка машин») вскрыло, что никакой знаковой системы у животных на самом деле нет.
Вот эти неудачи семиотико-кибернетических неумеренных обобщений неожиданно подстегнули научные искания в направлении первой из названных моделей — дисконтинуитета: а что, если она не обязательно связана с представлением о чуде творения, что, если этому перевороту удастся найти естественнонаучное объяснение?
Большая заслуга антрополога В. В. Бунака[85], а некоторое время спустя специалиста по психологии речи Н. И. Жинкина (ряд устных докладов) состояла в обосновании тезиса, что между сигнализационной деятельностью всех известных нам высших животных до антропоидов включительно и всякой известной нам речевой деятельностью человека лежит эволюционный интервал — hiatus. Однако предполагаемое этими авторами восполнение интервала лишь возвращает к старому количественному эволюционизму. Ниже в нескольких главах этой книги я излагаю альтернативный путь: углубление и расширение этого интервала настолько, чтобы между его краями уложилась целая система, противоположная обоим краям и тем их связывающая.
В заключении предыдущей главы уже было дано определение некоей специфики человеческих речевых знаков, абсолютно исключающее нахождение того же самого в редуцированном виде у животных. Здесь скажем шире: у человеческих речевых знаков и дочеловеческих доречевых квазизнаков при строгой логической проверке не оказывается ни единого общего множителя (если не говорить о физико-акустической и физиолого-вокативной стороне, которая по механизму обща с духовыми инструментами, свистками, гудками, клаксонами, воем ветра в трубе, но не имеет обязательной связи с проблемой знаков). Если слову «знаки» дано определение, подходящее для речи и языка человека, не оказывается оснований охватывать этим словом ни звуки, которые животное слышит, т. е. безусловнорефлекторные и условнорефлекторные раздражители, ни звуки, которые оно издаёт, в том числе внутрипопуляционные и внутристадные сигналы. Один из семиотиков, Л. О. Резников, принуждён называть речевые человеческие знаки «знаками в строгом смысле»[86]. Но не в строгом смысле нет и знаков: есть лишь признаки, объективно присущие предметам и ситуациям, т. е. составляющие их часть. Они не могут быть отторгнуты от «обозначаемого», они ему принадлежат.
Это справедливо и для тревожного крика — он неотторжим от опасности, как справедливо и для любого другого птичьего или звериного сигнала. Если вожак стада горных козлов вскакивает и издаёт блеяние при запахе или виде подкрадывающегося снежного барса — этот крик есть признак подкрадывающегося к стаду барса, оказавшегося в поле рецепции.
Большинство современных семиотиков, по крайней мере те, кто знаком с физиологией и этологией, определяют семиотику как науку о человеческих — только человеческих — знаках и знаковых системах. Если резюмировать суть этой грани, отделяющей человеческую коммуникативную систему от животных, сверх той формулировки, которая дана выше, её описательно можно выразить в немногих признаках, вернее, в одном комплексе признаков, вытекающих друг из друга.
Неверной оказалась характеристика знака как такого материального явления (предмета, действия), природа которого не зависит необходимым образом от природы обозначаемого им явления; между которым и обозначаемым явлением может не быть никакой причинной связи; который может также не иметь никакого сходства с обозначаемым явлением[87]. Верной для знаков первой степени, основных знаков естественных языков, оказалась иная формулировка: вместо «не зависит необходимым образом» надо сказать «необходимым образом не зависит»; вместо «может не быть никакой причинной связи» надо — «не может быть никакой причинной связи»; вместо «может не иметь никакого сходства», надо — «не может иметь никакого сходства». Это значит, что между знаком и обозначаемым в архетипе нет, не может быть никакой иной связи, кроме знаковой; всякая иная связь исключается, и это-то и конституирует знаковую функцию. Иначе между знаками не было бы свободной обмениваемости. В этом смысле знаки могут быть только «искусственными» — их материальные свойства не порождаются материальными свойствами обозначаемых объектов (денотатов). Их характеризуют также словами «немотивированные», «произвольные». Это не просто отрицающие нечто определения, как может показаться на первый взгляд: отсутствие всякой мотивированности (причинной связи между знаком и денотатом) есть железный принцип отбора годных знаков. Обнаружение же какой-либо иной функциональной связи между ними, кроме знаковой функции, в строгом смысле делает их «браком». Знаковая функция в исходной форме и есть образование связи между двумя материальными явлениями, не имеющими между собой абсолютно никакой иной связи. Поэтому слово «произвольные» мало выражает суть дела: «произвол в выборе» знакового материала настолько обуздан этим императивом, что остаётся лишь «произвол в выборе» среди остающегося материала.
Правда, в истории языкознания с давних времён до наших дней снова и снова возникают гипотезы о звукоподражательном происхождении слов или, шире, о какой-либо мотивированности звучания знака (акустико-артикуляционных признаков речевого знака) свойствами предмета или значения. Современные психолингвисты называют это проблемой «звукового символизма»[88]. Что касается звукоподражательных слов, то в глазах теоретического языкознания это лишь иллюзия, которая часто рассеивается при сравнении такого слова с его исходными, древними формами, а также с параллельными по смыслу словами в других языках. Новейшие количественные методы тоже не дают надёжных подтверждающих результатов. Если какие-либо из основных языковых знаков и содержат случайное сходство с обозначаемым предметом, это должно быть отброшено; только ребёнок может забавляться тем, что буква Д похожа на домик. Звуковое оформление слов человеческой речи не должно быть созвучно или причастно обозначаемым действиям, звукам, вещам.
Следовательно, эти знаки могут быть определены как нечто противоположное признакам, симптомам, показателям, естественным сигналам. Отсюда ясно, что и то и другое не может быть объединено никаким общим понятием. Нет формального единства, раз одно является обратным другому. Но между тем и другим существует отношение исхода, генеза: чтобы понять природу человеческих речевых знаков, надо знать противоположную природу реакций у животных. Однако здесь логически немыслима схема постепенного перехода одного в другое, какую рисует, например, Л. О. Резников. «…Определение знака как бросающегося в глаза признака, сделанного представителем предмета, с генетической точки зрения является правильным. Имеются основания предполагать, что первоначально функция знаков действительно выполнялась признаками: значение признака как свойства предмета, его внешнего проявления, вызываемого им действия и т. п., с одной стороны, и его значение как знака предмета с другой, не были расчленены, они сливались. Но затем значение признака как знака выделилось. Стало ясно (? — Б. П.), что обозначающая функция может осуществляться некоторым явлением и в том случае, когда это явление не связано естественной связью с обозначаемым предметом. Функция знака обособилась от всех внешних проявлений предмета и была перенесена на другие предметы (явления), лишь условно связанные с обозначаемыми предметами. Таким образом, сделался возможным переход к созданию и использованию искусственных условных знаков, прежде всего языковых»[89]. Эта генетическая реконструкция, несомненно, полностью противоречит истине. Ведь ту же идею можно пересказать так: некогда для обозначения предметов служили верные признаки, а потом отбор сохранил для этой функции только (допустим, преимущественно) неверные признаки. Тут делается логическая ошибка: попытка взять за одну скобку два понятия, определяемые противоположностью друг другу. Истинна другая генетическая схема: языковые знаки появились как антитеза, как отрицание рефлекторных (условных и безусловных) раздражителей — признаков, показателей, симптомов, сигналов.