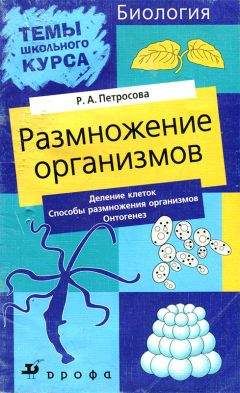Секс с учеными: Половое размножение и другие загадки биологии - Алексенко Алексей
Если бы Мейнард Смит использовал термин «равновесие Нэша», а не рассуждал бы о «стратегиях», то, возможно, у широкой публики возникло бы чуть меньше путаницы. Дело в том, что обычно стратегии придумывают и осуществляют осознанно. Но если говорить об «эволюционно стабильных стратегиях», то у подавляющего большинства живых существ ничего подобного не происходит: их «стратегии» – просто видимое следствие того, как они устроены. Деревья не решают для себя, что надо бы вырасти повыше и обездолить своих соседей, – просто физиология дерева не позволяет ему делать что-то другое. И уж тем более никаких коварных планов не может вынашивать ген. «Гены не могут быть эгоистичными, потому что это просто молекулы», – пишут доморощенные опровергатели Докинза, и я каждый раз радуюсь, что не вижу выражения их лиц после того, как они настучали на клавиатуре эту яркую, оригинальную сентенцию.
Смеяться над глупостью легко, но иногда что-то подобное могут произнести и вполне разумные люди. Если уж говорить о проблеме секса, то я своими глазами читал у вполне респектабельного автора, будто в рассуждении Мейнарда Смита о «двойной цене» полового размножения есть ошибка: не существует никакого «гена полового размножения», поскольку это самое половое размножение – слишком сложный процесс и одним геном там никак не обойдешься. Поздравляем автора, вломившегося в незапертую дверь.
Беда в том, что со словом «ген» у биологов есть одна проблемка, с которой сами они научились ловко разбираться, но вот непрофессионалы иногда путаются. Слово появилось в 1909 году с легкой руки ботаника Хуго де Фриза (а до него то же самое иногда называли «пангенами»), и им обозначали то самое непонятное, из-за чего у одних растений гороха в саду у каноника Менделя цветки красные, а у других – белые. Прошли годы, и стало ясно, что ген – это такой кусок молекулы ДНК, и вначале у него есть промотор, потом сигнал инициации транскрипции, далее кодирующая последовательность вплоть до стоп-кодона, и так далее. Но вначале этого никто не знал, и под геном понимали буквально «нечто, от чего зависит, каким из двух альтернативных признаков будет обладать организм». Его материальную природу, тогда еще загадочную, как-то на время научились выносить за скобки, чтобы не запутаться.
Из-за этого получается разница в словоупотреблении. Например, классический генетик может говорить о «гене рыжих волос»: если этот ген есть (точнее, если есть две копии такого гена), то у человека будут рыжие волосы. На самом деле рост волос и их окраска – точно так же, как черты характера или музыкальные способности, – определяются многими десятками разных генов, с которыми ловко разбираются молекулярные биологи, употребляющие слово «ген» в самом точном материалистическом смысле. Однако для классического генетика ген есть только там, где существуют два наследуемых варианта одного признака. В случае рыжих волос они заметят ген MC1R, кодирующий рецептор меланокортина: когда он работает, волосы вырастают какого угодно цвета, кроме рыжего, а если сломан – вот тут-то и появляется очередная мишень для дразнилки. Кстати, молекулярный биолог испытает некий дискомфорт от того, что генетик назовет MC1R «геном рыжих волос»: ведь этот ген отвечает как раз за не-рыжесть. Подобным же образом ключевой ген развития глаза у плодовой мушки называется eyeless – «безглазый».
Такая же история и с «геном полового размножения». С одной стороны, такого гена вроде бы быть не может – только в одном мейозе задействованы сотни разных генов, а что уж говорить о поиске партнера и разнообразных проявлениях физической любви. С другой стороны, так можно назвать любой ген, носитель которого отличается от неносителя способностью размножаться с помощью секса. К примеру, у гриба аспергилла есть фермент антранилат синтаза. Он нужен для производства аминокислоты триптофана, но, если его сломать, одно из последствий поломки – неспособность гриба образовывать плодовые тела. Если все же исхитриться и скрестить такого мутанта с нормальным здоровым грибом, половина детишек смогут заниматься сексом (то есть производить аскоспоры), а половина нет. С точки зрения классического генетика, вот вам пример «гена полового размножения» – гена, которого, как мы слышали, не может быть, поскольку половое размножение – чертовски сложный процесс.
Некоторые гены – или, если угодно, мутации в них – определяют выбор тех или иных игровых «стратегий» в том смысле, в каком о них рассуждал Мейнард Смит. Рассмотрим еще раз нашу незатейливую игру «пас-вист», где, как мы помним, стабильная стратегия – это жесткое разделение между игроками активной и пассивной ролей. Представим себе организмы, которые играют в эту игру уже много поколений и передают по наследству свою привычку в каждом игровом раунде кричать «пас» или «вист». Можно предположить, что династия лузеров, привыкшая пасовать, вообще отличается меньшей агрессивностью. Роковой борец с редукционизмом (а «редукционистами» принято ругать тех, кто, подобно Докинзу, так и норовит свести все к генам) станет говорить, что «гена агрессивности» не существует: пониженная агрессивность зависит не только от множества разных генов, но и от воспитания, социально-экономических факторов и т. п. Но вот в одном поколении в лузерской линии происходит мутация: портится ген, кодирующий белок, который разрушает избыток тестостерона. Между прочим, ближе к концу нашей истории мы встретимся с птичками, у которых произошла похожая мутация, и узнаем, что из этого вышло. Но кое-что можно сказать прямо сейчас: избыток тестостерона приведет к росту агрессии. Разумно предположить, что мутантный потомок пасующих лузеров может взбунтоваться и начать заявлять «вист». Так в результате одной мутации изменится стратегия игры.
Новая стратегия, очевидно, не будет стабильной: когда оба игрока вистуют, они сильно теряют на штрафах, и это наихудший вариант из всех возможных. Теперь, кто бы из них ни изменил свою стратегию (вернее, у кого бы она ни изменилась в результате новой мутации), оба будут в выигрыше. Возможны три варианта: во-первых, линия взбунтовавшихся лузеров может не выдержать бремени штрафных санкций и вымереть – естественный отбор удалит зловредную мутацию, и все станет как раньше. Во-вторых, обратная мутация или супрессия [7], восстанавливающая нормальный уровень тестостерона, теперь будет полезна бунтовщикам и если произойдет, то наверняка закрепится. А в-третьих, бунтовщики могут переупрямить потомственных мачо: среди тех триумфально распространится мутация, побуждающая их пасовать, потому что теперь такая мутация им полезна – она уменьшает их проигрыш. Стратегии поменяются местами и снова станут стабильными – до следующей мутации.
Теперь, когда мы разобрались, как игровые стратегии связаны с отбором и эволюцией, самое время выруливать обратно на магистральную линию повествования. Если кто забыл, речь шла о происхождении секса. Вот к чему мы пришли на данный момент: первоначально секс, видимо, появился вообще не ради размножения, просто первым сексуалам понадобилось освежить свои геномы, перетасовав их с геномом какого-нибудь сородича на началах полного равноправия. Особенно уместно было сделать это перед споруляцией – образованием надежных «капсул долговременного хранения», в которых ваш геном отправится заселять неведомые берега. Затем естественным образом, из соображений максимальной эффективности процесса, возникают типы спаривания, из которых, опять же в силу естественных причин, в конце концов останутся только два. Потом эти типы дифференцируются, превращаясь в два пола. И наконец, под действием неумолимых законов теории игр со всеми этими «эволюционно-стабильными стратегиями» один из полов превращается чуть ли не в паразита, беспощадно эксплуатирующего и притесняющего другой. Причем сделать с этим ничего нельзя: таково веление законов эволюции. Впрочем, с этой последней идеей нам еще предстоит разобраться, внеся в нее существенные коррективы.