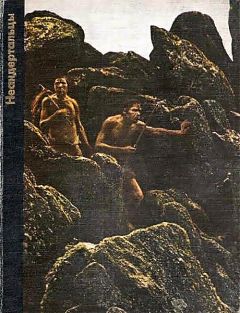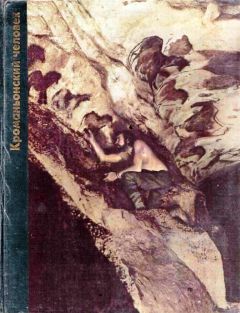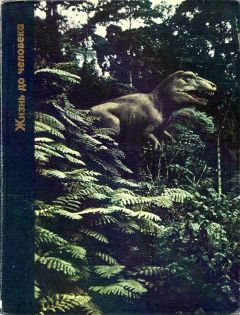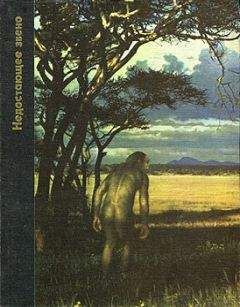Борис Медников - Аксиомы биологии
Энгельс называл «физику механикой молекул, химию – физикой атомов и далее биологию – химией белков» и писал, что он желает этим выразить «переход одной из этих наук в другую, – следовательно, как существующую между ними связь, непрерывность, так и различие, дискретность обеих. Но отсюда следует, что, например, достижения физики могут быть использованы как аксиомы для химии. Так оно и есть: некоторые физхимики уже поговаривают о сведении химии к физике, ибо любую реакцию и любого вещества можно свести к уравнениям квантовой механики. Тем самым они возводят в абсолют связь и не обращают внимания на различие. Это уже загиб: химия, несомненно, самостоятельная наука, но она выводится из физики.
Точно так же, на мой взгляд, называя биологию химией белков (мы бы теперь добавили: и нуклеиновых кислот), Энгельс имел в виду то, что аксиомы биологии, только ей присущие, нужно доказывать на уровне химии и физики. Для многих это непреодолимое затруднение: если-де это аксиома, ее нельзя доказать, а если ее можно доказать, то это не аксиома. Такой подход явно недиалектичен.
Вообще вопрос о выводимости (нередко пишут: сводимости) одних форм движения материи к другим до сих пор служит предметом дискуссий философов.
Что такое «сводимость»? Вот как отвечает на этот вопрос советский философ Б. М. Кедров:
«Механисты употребляют его в смысле отрицания качественной специфики высшей формы движения, полного ее исчерпания свойствами и законами низшей формы… Совершенно отличный смысл в то же самое слово вкладывают ученые, когда они устанавливают структурные и генетические связи между высшим и низшим. Высшее не исчерпывается низшим, но сводится к нему в структурном и генетическом отношении… В этом же – структурном и генетическом – смысле жизнь сводится к химии и физике, поскольку биологическое движение возникает и образуется из химического и физического, хотя и не исчерпывается ими в качественном отношении».
Полагаю, что в настоящее время только подобная точка зрения, как и во времена Энгельса, соответствует тому багажу фактов, который имеет современное естествознание.
Аксиомы биологии не должны противоречить основному принципу современного естествознания – принципу причинности.
Увы, биология, начиная с учителя Александра Македонского великого философа Аристотеля, то и дело грешила против этого великого принципа и продолжает в лице отдельных своих представителей делать это и сейчас.
Самая суть принципа причинности в том, что причина по времени должна предшествовать следствию. (Обычно философы толкуют его шире, но для нас в первую очередь важна именно эта сторона.) События, разделяемые каким– либо промежутком времени, неравноправны: будущее не влияет на прошлое. Этот смысл выражен в древнегреческой пословице: «Над прошедшим даже боги не властны». И в русской поговорке: «Знал бы где упасть, соломки бы подостлал».
Но согласно теории относительности промежуток времени между двумя событиями – величина, зависящая от скорости движения наблюдателя. Если скорость наблюдателя меньше скорости света в вакууме, одно событие всегда происходит раньше другого. Для «сверхсветового» наблюдателя порядок событий может оказаться обратным, и если события связаны друг с другом причинной связью, то причина и следствие меняются местами. Так, причиной вылета пули из канала ствола явится попадание ее в мишень, а причиной изменения генетической программы организма будет благоденствие его потомков. Мы вступаем в область столь неразрешимых парадоксов, что единственный выход из этого – признать невозможность «сверхсветового наблюдателя».[1]
Попытки обнаружить нарушения принципа причинности в эксперименте позволили прийти к выводу, что он справедлив и для расстояний, в десять миллионов раз меньших, чем диаметр атома. Предел проверке пока ставит мощность современных ускорителей. Вся окружающая нас природа ему подчиняется, и живая не является исключением. Нарушить его можно только в неэйнштейновском мире, где скорость света в вакууме не является пределом.
Аристотель же создал учение о некоей конечной цели – причине явления (так называемая «конечная причина»). Две тысячи лет это учение почти никем не подвергалось сомнению, и лишь в эпоху Возрождения против него начали восставать. Уже Френсис Бэкон писал, что с научной точки зрения «конечная причина» не нужна и вредна; прибегать к ней для объяснения какого-либо явления допустимо в метафизике, но весьма опасно в науке, так как она сразу закрывает путь для эксперимента (недаром Ньютон порой восклицал: «О физика, спаси меня от метафизики!»).
Слов нет, Аристотель был гениальным мыслителем. Но так уж получилось, что он стал злым гением естествознания, затормозив его развитие на добрые сто поколений. Он, в частности, вслед за Платоном отказался от основного принципа материалистической методологии – от практики как критерия истины. Математике это особого вреда не принесло, ибо ее аксиомы были слишком очевидны. Иное дело естествознание. Ограничусь лишь одним примером.
Путем логических рассуждений Аристотель пришел к выводу, что тяжелый камень падает быстрее легкого. И ему даже не пришло в голову проделать простейший опыт: попросить кого-нибудь из своих учеников попроворнее залезть на дерево лицейской рощи с двумя камнями разного веса и выпустить их из рук одновременно. А самому стать рядом, не так близко, чтобы камни не упали на голову, но и не так далеко, чтобы увидеть – камни коснутся земли одновременно. Даже сама мысль об этом казалась ему неприемлемой, низменной, чуждой философии.
Впрочем, что жалеть о том, чего не случилось. Опять же – действует закон причинности, запрещающий влиять на прошлое.
Как бы то ни было, физика начала освобождаться от влияния Аристотеля фактически с XV—XVII веков – времени Галилея, Паскаля, Декарта, Гюйгенса и Ньютона. И основатель Академии Линчеев Федерико Чези с гордостью писал Галилею: «Те, кого примем, не будут рабами ни Аристотеля, ни какого-либо другого философа, а людьми благородного и свободного образа мыслей в исследовании природы». Вот какой клин вбил Стагирит между философией и естествознанием! Отголоски этого спора дошли и до XVIII века. Это хорошо обыграно А. Н. Толстым в Петре Первом»:
«…А что, господин Паткуль, англичане Фергарсон и Гренс – знатные ученые?
– Будучи в Лондоне, слыхал о них. Люди не слишком знатные, сие не философы, но более наук практических…
– Именно. От богословия нас вши заели…»
Итак, философия стала синонимом богословия и антиподом практики. Немалую роль в этом сыграл тот же Аристотель, поднятый на щит средневековыми схоластами. Лишь в созданной Марксом и Энгельсом философии критерий практики получил достойное место. Но, увы, аристотелизм в биологии занял слишком прочную позицию. Биологические системы сложнее механических, и процесс накопления новых данных шел здесь с гораздо меньшей скоростью.
Поэтому, даже сейчас Аристотелевы положения о конечных причинах имеют успех у ряда естествоиспытателей. Ведь на них неявно основаны учения о наследовании приобретенных признаков, изначально приспособительной, целесообразной изменчивости, ассимиляции условий внешней среды. И так далее.
В последнее время в научной и в научно-популярной литературе усиленно обсуждается вопрос о теоретической биологии: можно ли превратить науку о живом из груды как будто бы не связанных друг с другом фактов в стройное здание, где все положения и факты связаны друг с другом и все вытекают из непреложных, продиктованных всем человеческим опытом аксиом? Мнения высказываются самые разнообразные. Мне, например, доводилось слышать пессимистический вывод, гласящий, что в отличие от теоретической физики теоретическую биологию создать принципиально невозможно. Обосновывается этот вывод довольно просто. Ни об электроне, ни об атоме не скажешь, что каждый из них уникален, единственный в своем роде. А вот в биологии, что ни объект, то «неповторимая индивидуальность». Уникальные клетки слагают уникальные организмы, из организмов состоят популяции, из популяций – виды, а сколько их и как они разнообразны!.. Видимо, это различие объектов биологии и физики и имел в виду
Макс Дельбрюк – физик и биолог одновременно, когда писал: «Зрелого физика, впервые сталкивающегося с проблемами биологии, ставит в тупик то обстоятельство, что в биологии нет «абсолютных явлений». Каждое явление представляется иным в разных местах и в разное время. Любое животное, растение или микроорганизм… лишь одно звено в эволюционной цепи изменяющихся форм, ни одна из которых не остается сколько-нибудь постоянной».
Большинство исследователей придерживаются иного мнения: теоретической биологии еще нет, но она возможна. Просто мы не знаем пока всех принципов (аксиом, исходных положений), которые должны лежать в ее фундаменте. Так, математик В. В. Налимов полагает, что на пути создания теоретической биологии стоит неодолимое сегодня препятствие – чрезвычайная сложность исследуемых объектов. Она, эта сложность, не позволяет представить явление, именуемое жизнью, короче, чем это удается сделать при непосредственном наблюдении. Теория же, считает Налимов, это компактное построение. Любопытно, что по меньшей мере одно такое построение он признает – эволюционную теорию Дарвина.