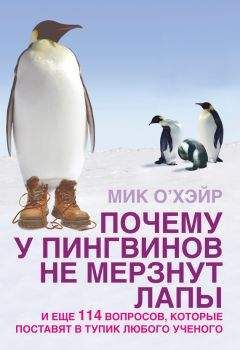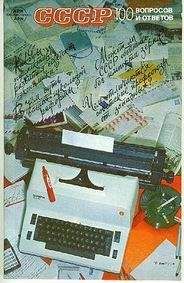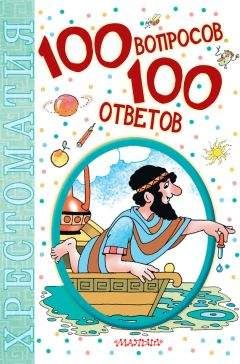Джон Глэд - Будущая эволюция человека. Евгеника двадцать первого века
В середине девятнадцатого века, когда органы правосудия в разных странах все еще руководствовались представлением о свободе воли, преступление рассматривалось как грех, который должен быть искуплен. В конце 50-х годов XIX века французский врач Б.А. Морель заложил основы криминальной антропологии. Сам Гальтон выступал за применение специальных мер, ограничивающих деторождение не только у психически больных и слабоумных, а также уголовных преступников, но и у нищих[76]. В 1876 году, через пять лет после выхода в свет «Происхождения человека» Дарвина, итальянский криминолог и врач Чезаре Ломброзо опубликовал книгу «Преступник», где попытался продемонстрировать биологическую природу преступности. Ломброзо утверждал, что на вскрытиях он установил определенные физические характеристики-стигматы врожденного преступника, у которого, как он считал, имеется недоразвитый череп. Если согласиться с подобного рода врожденной детерминацией, наказание за преступление становится бессмысленным.
Взгляды Ломброзо ныне расцениваются как ошибочные, тем не менее исследования с целью подтвердить роль наследственности в преступном поведении продолжаются. В 1982 году в Швеции было показано, что уровень преступности среди приемных детей составляет 2,9%, если ни биологические, ни приемные родители не привлекались к суду за нарушение закона. Если один из биологических родителей был преступником, показатель криминальности у детей был 6,7%, а когда преступниками были оба биологических родителя, вдвое выше — 12,1%.[77]
Представители левых кругов поначалу склонялись к биологическому позитивизму, зато марксисты считали преступность однозначно функцией социальной среды. Анархисты даже сочувствовали преступникам, видя в них бунтарей-повстанцев, бросивших вызов обществу социальной несправедливости. Преступление в капиталистическом обществе рассматривалось как революционный акт.
Если эгалитарист Франц Боас был отцом антропологии, то родительские права на криминологию («приемыша» социологии) следует передать Эдвину И. Сатерленду, для которого обучение и обучаемость было целиком и полностью социальным явлением, никак не детерминированным биологически. В 1914 году Сатерленд опубликовал книгу «Криминология», оказавшую огромное влияние на дальнейшее развитие всей этой области в XX веке. Опираясь на эту работу, в особенности на позднейшие, переработанные издания, авторы многих учебников криминалистики даже не упоминали об IQ либо трактовали этот термин очень вольно.
Между тем исследования умственного развития последовательно выявляли более низкий IQ среди лиц, совершивших преступные действия, по сравнению с общим населением. Умственное развитие 200 несовершеннолетних правонарушителей, помещенных в исправительные учреждения штата Айова, показывает 1Q 90,4 у мальчиков и 94,1 у девочек. Средний IQ среди подростков, не совершавших уголовных преступлений, был 103 у мальчиков и 105,5 у девочек[78]. Полицейские досье на более чем 3600 мальчиков в графстве Контра Коста, штат Калифорния, дают соотношение между IQ и преступностью 0,31.[79] В другом исследовании 411 лондонских подростков наблюдались в течение десяти лет с целью установить показатели умственного развития в криминальной и некриминальной группах. В то время как лишь один из пятидесяти мальчиков с IQ 110 и выше был рецидивистом, один из пяти с IQ 90 или ниже оказывался в группе закоренелых преступников[80].
Со времени пересмотра тестов Станфорда-Бине и Векслера-Бэлвью в конце 30-х годов не раз оказывалось, что IQ у несовершеннолетних преступников отличаются от IQ в общей популяции в среднем на 8 пунктов[81] — значительная, но не огромная разница. Можно предположить, что разрыв мог быть еще меньше, если бы удалось получить более высокий процент приводов в полицейский участок недостаточно ловких малолетних преступников. Та же тенденция прослеживается у взрослого контингента. Средний IQ у нарушителей закона — около 92, то есть на 8 пунктов, или на половину стандартного отклонения, ниже среднего[82].
Что же происходит в действительности? Жизнь сама по себе — жестокая борьба, побежденные нередко оказываются на вертеле над костром победителей. Современная цивилизация навязывает правила (так называемые ценности среднего класса), которые предоставляют рядовому человеку больше, чем в прежние времена, шансов на успех. Представим себе ситуацию, когда сытный ужин получает только самый быстрый бегун. Очень может быть, что не столь быстроногие участники соревнования, вместо того чтобы тщетно стараться превзойти его в скорости, захотят просто подставить ему ножку. То же относится к умственному развитию. Преуспевающему биржевому маклеру, хорошо зарабатывающему хирургу или владельцу адвокатской конторы нет нужды совершать преступление, чтобы разбогатеть, но ниже на профессиональной шкале находятся те, чье низкое умственное развитие обрекает их на материальное рабство. Можно ли, хотя бы отчасти, так просто объяснить преступность?
В какой мере унаследованный низкий моральный уровень является фактором, определяющим поведение преступника? Прежде чем зарубить топором старуху-процентщицу, Раскольников пытается логически снять с себя вину. Очевидно, что таких, как Раскольников, в преступной среде не так уж много. Во всяком случае, для многих из них совесть, по-видимому, — слаборазвитое чувство.
Можем ли мы по-настоящему доверить страшную силу управляемой эволюции бюрократам? Не далеки ли мы и сегодня от более четкого понимания природы преступности? Не является ли преступность статистическим «хвостом» таких свойств, как склонность к приключениям и риску? А если это так, — вряд ли стоит добиваться, чтобы в народе поощрялись инертность и пассивность.
Миграция
Расселившись по всей планете, человек продолжает тратить неимоверные усилия, чтобы перемешаться по ней. Цивилизации были порабощены, вытеснены или наводнены чуждыми, пришлыми популяциями. На смену самодостаточности приходила все более дробная специализация, создавались новые правящие классы, подчас рекрутируемые из весьма разнородных этносов[83].
Так как глобальный фонд талантов не убавляется и не прибавляется от того, что кто-то переезжает из страны А в страну Б, миграция представляет собой игру с нулевым счетом. Но при этом одни страны выигрывают, а другие проигрывают. Соединенные Штаты привлекают большое число одаренных людей, но одновременно и тех, кто едва ли способен подняться над низшим социально-экономическим слоем. Средний показатель IQ у иммигрантов в 80-х годах XX века составлял, по некоторым данным, 95 единиц, всего на одну треть ниже среднего стандартного отклонения[84]. Эта разница слишком мала, чтобы можно было объяснить ее неблагоприятной средой, откуда прибыли многие приезжие.
Прежде миграции происходили медленно, создавая разнообразие благодаря долгим периодам относительной генетической изоляции. Новейшие транспортные средства быстро разрушают эту изоляцию. Сотрудники агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) подсчитали, что 53% из 6809 языков мира находятся под угрозой вымирания к 2100 году. Исчезновение этого «резервуара человеческой мысли и знаний»[85] сопровождается утратой генетического разнообразия, что повергло бы в отчаяние экологов, случись что-либо подобное с другими представителями животного царства, а не с человеком.
История и политика евгеники
Краткая история евгенического движения
Успешное разведение растений и животных отмечает конец периода охоты и собирательства в эволюции человечества. Если говорить о письменных свидетельствах, то «Республику» Платона можно рассматривать как первый теоретический трактат по евгенике.
После появления книги Дарвина «Происхождение видов» (1859), объяснившей эволюцию и место человека в мироздании, с неизбежностью возникло желание заняться тем, что называлось тогда «расовым улучшением». Другими словами, появилась озабоченность биологическими последствиями преодоления естественного отбора в современном мире.
Сам Дарвин стал настоящим социальным дарвинистом, сокрушаясь о том, что
мы сделали все, что могли, чтобы обуздать процесс отбора; мы построили приюты для слабоумных, калек и больных; мы создали законодательство для бедных; наши врачи совершают чудеса искусства, дабы сохранить жизнь каждого до последней возможности… Так слабые члены цивилизованных сообществ размножают свою породу. Никто из тех, кто занимается разведением домашних животных, не усомнится, что это крайне вредно и для человеческой расы.