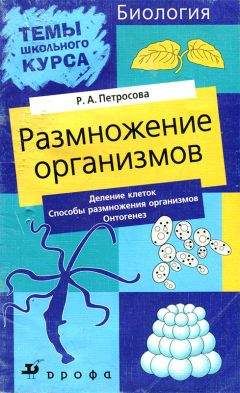Секс с учеными: Половое размножение и другие загадки биологии - Алексенко Алексей
Дело в том, что если гены не перемешивать при помощи полового размножения, сопровождающегося рекомбинацией, то отбор не сможет проверять их каждый по отдельности. Вместо этого он вынужден иметь дело сразу с большим куском генома – целой хромосомой (а если вообще обойтись без секса, то и со всем геномом сразу). Допустим, в этой хромосоме возникла мутация, не то чтобы слишком ужасная, но лучше бы без нее. К несчастью, на той же самой хромосоме оказалась и другая мутация – весьма полезная. Конечно, отбор поддержит полезную мутацию, и через сколько-то поколений она распространится повсеместно – каждая особь этого вида получит ее в наследство. Увы, вместе с ней она получит в нагрузку и все мелкие несовершенства, которые накопились на этой хромосоме. В результате всякое разнообразие исчезнет: все варианты данной хромосомы, которые гуляли когда-то по популяции, сойдут на нет, кроме единственного – того, где отбор заметил полезную мутацию и просмотрел множество слабовредных. При половом размножении с рекомбинацией такое было бы невозможно: полезная мутация была бы отделена от шлака и распространялась бы независимо от всего того груза, который ее окружает. Если этот груз вреден, отбор бы его вычистил, а если он ни рыба ни мясо, то так бы и остался болтаться в популяции с определенной частотой, обогащая ее разнообразие, то есть создавая полиморфизм.
Итак, наблюдения за палочниками и многими другими видами живых существ вроде бы поддерживают идеи Мёллера. За чем же дело стало? А вот за чем: мы пока показали, теоретически и практически, что без секса всем грозит генетическое вырождение, а секс как-то этому мешает. Чего мы не доказали – это что секс не просто «как-то мешает», а действительно способен остановить зловещее пощелкивание пресловутого храповика. Лишь в конце ХХ века генетики подступились к этой задаче, и их ждали большие сложности.
Когда Герман Мёллер возился со своими мухами, о скорости накопления мутаций было известно очень мало. Чтобы найти одного мутанта с заданными свойствами, например мушку с белыми глазами, несущую мутацию в гене white, одном из самых часто упоминаемых генов в научной литературе, надо пересмотреть огромное число мух. То есть вроде бы мутации в отдельном гене довольно редки. Но при этом Мёллер совершенно не понимал, что такое эти самые гены и тем более сколько их всего у мухи и сколько, кстати, у человека. Он, к примеру, «оценивал», что в геноме каждого человека в среднем есть восемь вредных мутаций (человек существо диплоидное, а мутации рецессивные, то есть их не видно, пока рядом есть аналогичный немутантный ген). Вероятно, у Мёллера были свои резоны так думать, но реальная цифра оказалась в сотни, а то и тысячи раз больше.
До конца ХХ века, пока люди не набили руку в расшифровке геномов, можно было делать самые произвольные предположения о том, как часто возникают спонтанные мутации и какая их доля вредна. Но правда не могла не выйти наружу, и она оказалась крайне неприятной.
Не будем о мухах, давайте о людях. У человека не менее 20 000 генов. Сами гены занимают примерно одну сотую часть генома, но, если приглядеться к последовательностям, так или иначе важным для функционирования организма, их в геноме гораздо больше. На сегодня самая консервативная оценка составляет 8﹪. И при этом каждый новорожденный представитель Homo sapiens несет в своем геноме в среднем семьдесят новых мутаций – в дополнение к тем старым, что он унаследовал от родителей. Получается, что примерно штук пять-шесть из этих семидесяти мутаций приходятся на жизненно важные части генома. А значит, они, скорее всего, в какой-то степени вредны.
Возможно, вам хочется снисходительно улыбнуться и сказать: «Ничего, пусть эти мутации отсеет отбор», но надо понимать, как отбор это делает. У него для этого есть единственный инструмент: носитель мутации должен умереть (то есть умереть, не оставив потомства, – это называется «генетическая смерть»). Одна мутация – одна смерть. Этот лапидарный принцип был даже строго доказан под названием «теорема Холдейна – Мёллера». Согласно этой теореме, последствия для популяции не зависят от того, насколько именно вредной была эта самая мутация: чтобы избавиться от нее, умереть бездетным в любом случае кому-то придется. А значит, если в каждом из нас от рождения возникает шесть слабовредных мутаций, ничего с ними сделать отбор не может: у нас просто нет столько жизней, чтобы с ним расплатиться.
Таким образом, если к бесполому размножению перейдем мы с вами, человечество выродится довольно стремительно. Но проблема в том, что даже секс вроде бы не спасет нас от такой печальной участи. По первым прикидкам, с такой лавиной мутаций он справиться не сможет. Мы должны сгинуть под бременем мутаций буквально за считаные поколения. Как, кстати, и плодовая мушка, хоть ее и не так жалко, – у нее статистика мутаций довольно похожа на человеческую. Однако же и мы, и мушки существуем уже довольно давно, а значит, где-то в этом рассуждении закралась ошибка.
Ошибку искали многие, и среди прочих этой темой в начале 1980-х годов увлекся Алексей Кондрашов, тогда еще молодой биолог-теоретик из подмосковного Пущина. В Пущине тогда работал вычислительный центр, в нем был компьютер, и с его помощью Кондрашов начал рассчитывать свои модели.
Повторюсь, что в 1980-х о мутациях у реальных организмов знали не так уж много, так что у Кондрашова была полная свобода наделять свои выдуманные из головы популяции организмов теми или иными свойствами. К примеру, он предположил, что у каждого организма есть хотя бы одна слабовредная мутация (и, как мы видели выше, он с этим угадал). Оказалось, что при таких условиях все же возможно заставить секс работать, то есть успешно противостоять накоплению генетического груза. Для этого нужно сделать всего одно дополнительное предположение – эпистаз.
Генетики обожают трудные слова, такие как «эпистаз», а если еще и ввернуть, что «при эпистазе во втором поколении гибридов наблюдается расщепление 13: 3», любой нормальный читатель почувствует тошноту. Но на самом деле генетики просто хотят покрасоваться, а эпистаз – это всего лишь взаимодействие между разными мутациями.
Рассмотрим, например, поговорку: «Снявши голову, по волосам не плачут». Генетик может понять ее так, что есть две мутации – отсутствие волос и отсутствие головы – и между ними существует положительный эпистаз. А именно – вредное действие первой мутации полностью устраняется второй, потому что в отсутствие головы облысение вообще перестает быть проблемой. По своей приспособленности две особи – с обеими мутациями или только с одной, безголовой, – ничем не отличаются друг от друга, потому что у обеих нет головы – и, естественно, волос на ней. Такой тип эпистаза бывает, если два гена контролируют последовательные стадии какого-нибудь процесса. В данном случае мы предполагаем, что сперва у кого-то вырастает голова и уже потом на ней – волосы.
Другой вариант эпистаза – отрицательный, или синергический. Он бывает, когда два гена отвечают не за последовательные, а за параллельные пути к результату, то есть хотя бы отчасти дублируют друг друга. Если опять обратиться к поговоркам, этот вариант отражен в английской By hook or by crook или в русской «Не мытьем, так катаньем» [2]. В этом случае мутации в каждом из генов могут иметь небольшой вредный эффект, но когда поражены оба, то катастрофические последствия куда серьезнее, чем просто сумма эффектов каждой мутации в отдельности.
И вот Кондрашов предположил, что большинство мутаций у моделируемых им организмов именно таковы. И тогда, согласно моделям, секс действительно помогает очистить популяцию от мутаций: объединяя между собой «синергические» мутации, он сразу же повышает их вредный эффект до такого уровня, что отбор способен заметить неладное и избавиться от груза [3].
О том, что огромное множество биологических механизмов действительно основано на избыточности и некотором дублировании, биологи сейчас знают довольно точно. О том же, что предложенный когда-то Кондрашовым механизм работает в реальных популяциях людей и мух, он и его сотрудники доложили в 2017-м в журнале Science.