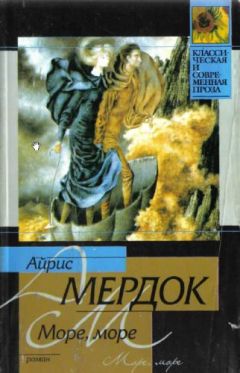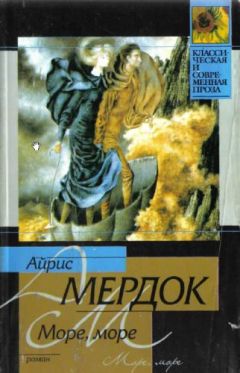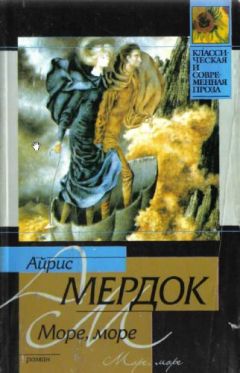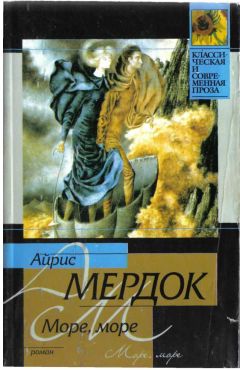Владимир Водяницкий - Записки натуралиста
Общество тесно сотрудничало с окружной плановой комиссией. По ее поручению я составил обзор изученности Черноморского округа. Спустя много лет работники исполкома говорили, что до сих пор используют мою записку для получения разных справок.
В Батуме состоялся Всесоюзный съезд по изучению Черноморского побережья (1924). Наше общество предложило несколько докладов, в том числе и по изучению моря. К съезду было приурочено открытие выставки. Съезд способствовал установлению крепких связей между краеведческими обществами и музеями городов Кавказского побережья.
В это время в Цихисдзири (под Батуми) появилась еще одна биологическая станция. К сожалению, на ней тогда еще не было постоянного штата исследователей, и для работы приезжали сотрудники Тбилисского университета. Позднее мне разрешили провести здесь некоторые наблюдения. Я занимался ихтиопланктоном. Нина Васильевна обследовала распределения водорослей по Кавказскому и Крымскому побережьям и дала общую оценку запасов водорослей в Черном море.
Что касается нашей Биологической станции, то помимо морских работ на ней проводились исследования и пресных вод: на прикубанских лиманах и озере Абрау. Кроме того, мы изучали места обитания малярийного комара в районе Новороссийска.
1925—1929 г.
Работы Нины Васильевны приобретали четко выраженное экологическое направление, ставшее в дальнейшем знаменем научной деятельности станции. Занимаясь в течение многих лет экологией водорослей Новороссийской бухты, она строго придерживалась метода количественной характеристики фитоценозов в их годичных изменениях и сменах и стремилась определить роль отдельных видов в общей продуктивности. Своими работами Нина Васильевна показала, что количественный метод должен не только давать картину обилия в какой-то момент наблюдения, но и выражать процесс, результатом которого является динамика биоценозов и годичной продукции водоема. В то время подобный подход являлся новшеством и иногда вызывал скептическое отношение. Даже спустя 10 лет, когда Нина Васильевна защищала докторскую диссертацию, из отдельных выступлений явствовало, что еще далеко не понята разница между «наличием организмов в какой-то момент и их продукцией за определенный период».
В выяснении систематического состава водорослей очень помогала Елена Степановна Зинова, крупнейший альголог, сотрудница Ботанического института Академии наук СССР. Она часто работала на станции и составила монографию водорослей Новороссийской бухты.
Николай Михайлович Книпович настойчиво указывал мне на необходимость всерьез заняться ихтиопланктоном (свободно плавающими в воде икринками и личинками рыб). Эта важная ветвь ихтиологии в отечественной науке оказалась мало развитой. Ихтиопланктон не был детально изучен и экспедицией Н. М. Книповича на Черном море. Этот пробел требовалось восполнить. Предполагалось, что изучение ихтиопланктона поможет вскрыть ряд важных сторон биологии промысловых рыб.
«Дело кропотливое, но перспективное,— говорил Николай Михайлович.— Вероятно, никто кроме вас этим вскоре не сможет заняться. Нужно регулярно обрабатывать планктонные ловы, отбирать икринки и личинки рыб, содержать их живыми в лаборатории, зарисовывать стадии развития и добиваться выяснения их видовой принадлежности. При этом станет ясно, на что нужно обратить особенное внимание в изучении биологии размножения и развития черноморских рыб, большинство которых имеют планктонные стадии развития».
Мне потребовалось два года, чтобы в основном разобраться в морфологии и систематике черноморского ихтиопланктона. Теперь, когда все нарисовано, описано и составлены определители, любой студент постигнет это дело за неделю. Изучение ихтиопланктона стало обязательной и очень важной частью планктонных и рыбохозяйственных исследований на Черном море.
Представители ихтиопланктона: икринки и личинки шпрота (I), тунца (II), пеламиды (III)
Большое значение в жизни и работе станции имели все более крепнущие связи с зоологами и ботаниками Москвы и Ленинграда. Для изучения древоточцев на станцию прибыл Лев Александрович Зенкевич. Выполнив работы, он уехал, но наша дружба оставалась неизменной, а кафедра зоологии беспозвоночных Московского университета, которой руководил Зенкевич, стала для нас родным домом, как, впрочем, и кафедра ихтиологии, возглавляемая Владимиром Викторовичем Васнецовым. Многолетняя дружба связала нас с эволюционными морфологами Борисом Степановичем Матвеевым и Сергеем Григорьевичем Крыжановским. Они проводили на станции большие исследования, связанные с изучением пелагических стадий развития рыб. Нам было очень приятно встретиться с Арвидом Либорьевичем Бенингом. Знакомя Бенинга со станцией, мы показали ему и заветные три тетрадки, с которых она началась. В дальнейшем мы часто виделись с ним в Ленинграде в неизменной дружеской компании у Вячеслава Михайловича Рылова, известного зоолога и гидробиолога, который с необыкновенной сердечностью покровительствовал, как мог, нашей молодой станции. Такая же дружба установилась у нас с Владимиром Ивановичем Жадиным и Екатериной Степановной Неизвестновой. Нас сближало то, что они тоже вдвоем организовали Окскую биологическую станцию (г. Муром), которая успешно развернула исследования биологии рек. Жадин и Неизвестнова провели некоторое время в Новороссийске и побывали вместе с нами на озере Абрау, особенно заинтересовавшись реликтовым характером его фауны. Посещали нас Иван Иванович Шмальгаузен (тогда еще профессор Киевского университета) и профессор Константин Михайлович Дерюгин (в то время директор Мурманской биологической станции), чрезвычайно активно поддерживавший нашу деятельность. Из Симферополя приезжал профессор Иван Иванович Пузанов вместе со своим учеником Владимиром Дмитриевичем Гордеевым, будущим директором Карадагской биологической станции. Крепли наши связи с ботаниками. Академики Борис Лаврентьевич Исаченко и Георгий Адамович Надсон, профессора Николай Михайлович Гайдуков, Константин Игнатьевич Мейер и Лев Иванович Курсанов буквально окружили Нину Васильевну заботой и вниманием, всячески помогая ее исследованиям. Нельзя не вспомнить с величайшей признательностью поддержку, которую мы чувствовали тогда со стороны многих ученых старшего поколения. Да, в сущности говоря, и доверие, оказываемое нам официальными органами, которым подчинялась станция, расценивалось как аванс под возможные успехи.
Понемногу на станции начали появляться штатные научные сотрудники — биологи. В 1926 г. по рекомендации К. М. Дерюгина был принят лаборантом Семен Михайлович Малятский. Он начал усердно заниматься ихтиологией и провел серию хороших исследований. В дальнейшем Малятский стал организатором Батумской рыбохозяйственной и биологической станции, директором Новороссийской биологической станции, защитил докторскую диссертацию.
В середине 20-х годов в Новороссийске еще вели крупный лов сельдей. Осенью и весной, во время миграций сельди из Азовского моря вдоль Кавказского побережья и обратно, рыбу ловили большими волокушами, которые вытаскивали на берег с помощью воротов. Главным местом лова была Галацкая бухточка, вблизи Биологической станции. Выяснилось, что в Новороссийске сохранились данные об уловах сельдей за много лет.
Их-то и обработал С. М. Малятский, получив интересные результаты как об общем характере миграций черноморско-азовских сельдей, так и об особенностях хода каждого из трех видов этой рыбы.
Его работа вышла в Ростове отдельной книгой. Она открывалась любопытным редакционным предисловием. В нем, в частности, говорилось, что работа содержит ценные фактические данные, но автор стоит на метафизических позициях, так как связывает миграции сельдей с изменениями температуры воды в море. В действительности же, подчеркивалось в предисловии, миграции зависят от внутренних биологических причин. Теперь нам понятно, что важно и то и другое, но в то время официальная биология выступала против «внешних факторов», особенно против влияния периодических изменений солнечной активности. Последнее считалось полнейшей ересью и грубой метафизикой.
Очень активно работала на станции и группа местных жительниц. Они пришли к нам, не имея специальной подготовки, но быстро освоились с практической работой. Многие из них затем заочно завершили свое высшее образование. В их числе были Е. Г. Косякина — пианистка и языковед, с успехом занимавшаяся зоо- и ихтиопланктоном, З. Н. Михайловская, быстро освоившая специальность фитопланктониста, З. М. Пчелина, проявившая большие способности в изучении ихтиопланктона, М. Г. Каптаренко, работавшая с Ниной Васильевной по макрофитам. Все они оставили заметный след в деятельности станции; опубликованные ими работы не потеряли значение и до настоящего времени.